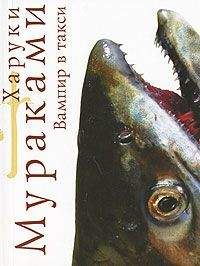Анатолий Азольский - Облдрамтеатр
Цвета выпячены выпуклым покрытием, в глазах рябит от штрихового разнообразия вертикальных полосочек на голубых и лазоревых планках, глаза что-то усваивают, но что? И если еще внимательнее всмотреться в это чудо портняжного искусства, то станет заметной другая издевательская нелепица! Китель — офицерский по покрою, сшит для военнослужащего, на нем, следовательно, могут быть или когда-то были погоны, а те к кителю прикрепляются в двух местах: подкладка погона продевается под пришитую к плечу лямочку, а ближе к вороту предусмотрены две дырочки, тут уж никакие самодельные проколы недопустимы, дырочки оформляются по всем правилам, обметываются нит— ками, специальный шнурочек изнутри просовывается через пуговичку на самом погоне и завязывается под кителем. Без дырочек, короче, погон не ляжет на плечо, не прикрепится к нему, а будет свободно болтаться. На кителе же Синицына — дырочек этих не было! А лямка для крепления погон — была! И подворотничок такой, какой офицеры предпочитают не носить, — целлулоидный. Его, спору нет, стирать каждые два дня не надо, но он не впитывает пот и создает неудобство коже. Некоторые, однако, носят, чтоб не надеяться на жену или ординарца. И вновь странность. В уставе нет точных указаний, на сколько миллиметров должен выглядывать из-за ворота кителя этот белый, обычно из простынного материала, подворотничок, пришивали на глазок — два миллиметра, три, лишь бы неназойливо удостоверял чистоплотность офицера. Этот же, целлулоидный, обрамляет ворот, как выпушка на мундирах николаевской эпохи. Если верить трепушке школьнице, китель этот приобретен на толкучке и Синицын ходил в нем на танцы, что, конечно, сущая ерунда, война кончилась не так давно, многие фронтовики носят кителя за неимением гражданских костюмов. Чтоб прослыть героями военных лет, рядятся в эти кителя и те, кто пороха не нюхал, но народ-то в общем — грамотный, декоративно-демонстрационный китель был бы высмеян, уж очень в нем выпячено мужское кокетство. В позапрошлом году принят Указ, два года, кажется, дают за ношение чужих орденов, судебная практика еще не разрешила коллизию, орденские планки считать государственными наградами или нет. Творец необычного кителя и это предусмотрел, ни одной железяки не привесил. И не мог не подумать о том, что в городе — штаб военного окру— га, училища и воинские части, свирепствующая комендатура, патрулей на улицах полно, Синицын в нем двух кварталов не прошел бы, китель — не для пеших прогулок, не для танцев, в кителе этом только на машинах ездить. И машина была, заезжала она за Синицыным 25, 28 и 31 августа, причем останавливалась не у самого дома, серая «Победа» дожидалась фрезеровщика далеко за углом.
Нет, не на покойника сшит китель! И не для театра, там своя условность, своя реальность, в театре нет, как в кино, крупных планов, там дырочку под орден не обошьют по кругу нитками, дырочка не видна даже первому ряду партера, но среди зрителей достаточно бывалых людей, они бы заметили и наглую вычурность кителя, и цвет его, и…
Странный китель, чрезвычайно подозрительный, сшитый специально для удара по психике, для ошеломления, предмет одежды преступника, хорошо рассчитавшего психологическое воздействие на жертву, которая придет в смятение, потеряет контроль над собой. Произведение искусства, сотворенное мастером, превосходно знавшим, чтбо есть настоящий уставной китель. Не для сцены работала преступная мысль, хотя мастер этот — близкий к театру человек, прощупавший нити, которые связывают зрителей и артистов, зал и сцену. «Пассажир» и свой собственный облик продумал, он либо намеревался подавлять и обдуривать кого-то швейцарскими часами и перстнем, либо, наоборот, скрывал свою принадлежность к людям, имеющим дорогие вещи, и, пожалуй, если б не приступ острого аппендицита, Синицын пил бы чай в неизвестном месте. Уж не подменил ли его человек в офицерском кителе без погон, тот, кто убил «водителя»?.. Весной прошлого года бродила по Нижнеузенскому району интересная компания — человек пять небритых парней в ватниках и кирзовых сапогах. Подходили в деревнях к дому побогаче, спрашивали у хозяев, нет ли какой работенки, починить забор или еще чего, не угрожали, говорили скромно, лишь зыркали глазищами пропойными по дому, по хозяйским детишкам и добивались своего, уходили с червонцем за то, что ничего не сделали. Парни создавали атмосферу угроз тихой, мирной просьбой. Но эти-то, ряженые, не ради червонца придумали китель и перстень. К кому ездили? У кого чай пили? Что унесли с собой?
Где пожива? Куда подевались документы? Почему виляет ГАИ?
Номерные знаки «Победы» легко восстановить, еще проще запросить все автоколонны: кому отпущены в канистру десять литров бензина? Не будь этой канистры в багажнике — огонь не охватил бы машину. Две бензоколонки в городе, туда, однако, не позвонили. Потому, видимо, что с самого начала знали: «Победа» заправлялась в обкомовском гараже, о чем протрепались доминошники, но гараж-то — вотчина госбезопасности, а к ней стойкую неприязнь питает милиция, вся милиция, кроме младшего лейтенанта Ропни, который и не подозревает об обкомовском происхождении «автомашины неизвестной марки». Мильтон из деревни — везунчик, крючками своего сельского воображения сцепивший трамвай со странным поведением больного Синицына.
Такие гениальные дурачки только в деревнях и водятся, где изо дня в день, из года в год с естественной целесообразностью повторяются истинно природные явления, а люди не для преступлений созданы, потому и сельские мозги так чутко ловят нарушения вековых ритмов и злодеев распознают на расстоянии.
Неспроста Шерлок Холмс поигрывал на скрипке: он, живший вдали от мычания коров, классическими мелодиями восстанавливал в себе ощущение правильности мироздания. (Гастев уже оделся и модным узлом затягивал галстук.) Тот же Ропня склонен, как и младший сержант, страдалец по женской части, связывать женщину с безумством «водителя», но как и почему — непонятно. Тем не менее нельзя исключать: за столом с тортом сидела и женщина, она же приехала в гости с тремя мужчинами. Три здоровых мужика отклонили бы приглашение к чаю, мужикам нужна выпивка, но если с ними женщина, то поведенческий стереотип изменится. Ни одно преступление не обходится без женщины, грубая мужская мысль становится изобретательнее, изощреннее, когда рядом пульсирует инополый мозг.
Зеркало — на внутренней стороне дверцы шкафа, и Гастев уже закрывал его, когда увидел женский халат, красные хризантемы на желтом фоне, швейное изделие стоимостью в двести пятнадцать рублей сорок одну копейку, приобретенное им для Мишиной, чтоб было ей что по утрам на себя набрасывать. Прилив злобы овладел им внезапно — к этой комсомольской гадине, которой никогда и в голову не приходило, что ей, женщине, надо утром накормить спавшего с нею мужчину. На кухню влетала, как в пищеблок во главе санитарной комиссии: «Товарищ Гастев, у вас грязно, вам надо чаще подметать и мокрой тряпкой…» Этой бы тряпкой по морде милой Люсеньке, чтоб знала свое место! Ни разу, сучка, не спросила, на каком кладбище лежат родители, не побеспокоилась о раненых-перераненых ногах его; из Будапешта, где в августе была на молодежном фестивале, не привезла даже рубашоночки завалящей! И добро бы похоть влекла ее сюда, так нет, посланницей прогрессивного человечества заваливается в квартиру, как бы по общественным делам, весной ЦК ВЛКСМ издал клич: шире вовлекать несоюзную молодежь в комсомольскую жизнь, вот она сразу и приперлась, заодно и проконтролировать овечку, оставшуюся без кнута и присмотра. Дура безмозглая, урод!
Он застыл, не понимая, что это вдруг на него накатило, откуда злоба к женщине, с которой спит он, которая ничего дурного ему не сделала и даже, если верить декану, избавила его от картошки; она же — ходит такой гнусный слушок — устроила ему нынешнюю некислую жизнь. Порою кажется, что в самом существе этой власти есть нечто справедливое и благородное, о чем намекает бескорыстие Людмилы Мишиной да ночной шепот ее.
Надо быть благодарным, а не…
Тишина прервалась чуть слышным словом.
«Дружище…», — произнес он, урезонивая того, кто часто вмешивался в его жизнь, искажая ее и подправляя, то исчезая на месяцы и годы, то, пошлявшись неизвестно где, возвращаясь к нему, влезая в него и становясь тем объектом, над разгадкой неэфемерной сути которого бьются лучшие умы венской школы психиатров. Этот ловкий пройдоха, обаятельный парень и душа общества, умел как-то легко переносить все невзгоды, в страшный для Гастева день 27 августа 1938 года он, глянув на список зачисленных в институт и найдя себя неожиданно в черном перечне фамилий ХПФ, ничуть не огорчился, а издевательски хохотнул: «Ну и жонглеры!» Гастев и любил его и ненавидел, и презирал подобие свое и восхищался им, и молча сносил присутствие его в себе, потому что никогда наперед нельзя было знать, что выкинет этот тип — выручит его или загонит в несчастье. На фронте он его трижды спасал от верной смерти: однажды в самом конце сорок четвертого заразил поносом, Гастев едва в штаны не наложил, когда резался в карты под накатом бревен, не вытерпел наконец, вылетел на свежий воздух, добежал до траншейного закутка — и взрывная волна уткнула его носом в дерьмо: это снаряд угодил в блиндаж с картежниками, никто в живых не остался. Однако не далее как вчера завел же дружище своего хозяина в западню, на аркане подтащил к палатке с четвертинкой. Словам его нельзя было доверять, но и не прислушиваться к ним было еще опаснее, а потакание ему выворачивало карманы наизнанку, поскольку он — в отличие от Гастева — никогда не считал денег, брошенных на женщин, а уж во что ему обошелся халат любовницы — никогда не запомнил бы. Не издавая ни звука, немо артикулируя, Гастев обругал дружище за излишнюю фамильярность, в ответ на что тот встряхнул его память, и вспомнился май позапрошлого года, цветение лугов, внезапный приезд Мишиной, объятья в Доме колхозника, из которых она вывернулась, наотрез отказавшись от любви и на полу, и на раскладушке, потому что приехала сюда для того лишь, чтоб — надо ж такую галиматью сочинить! — выстирать ему рубашки. Он жалким псом вился у ее ног, умолял, но Мишина и впрямь решила белыми партийно-комсомольскими ручками своими мужское бельишко потереть в мыльной пене, должна же была понимать, чтбо надо одинокому мужчине! Но не только не поняла, а прогнала его в коридор, когда он вознамерился любовь совместить со стиркой!..