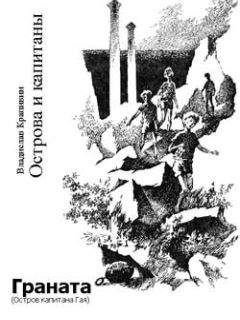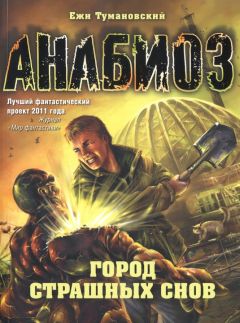Александр Граков - ОХОТА НА КРУТЫХ
— Сейчас! — Федя пыхтел у задней двери «рафика». — Замок... дверца... не открывается!
— А часы поставил?
— Угу!
— Так какого же ты рассусоливаешь? Выбей заднее стекло и швыряй!
— Жалко! Я за него на «толчке» двести «тонн» отвалил!
— Ах ты!.. — Санька не успел продолжить — плотный автоматный огонь «выдул» заднее стекло. Федя немедля вышвырнул через него мину.
Рвануло так, что подскочил задок «рафика». Иномарка после автоматного залпа приотстала, и это спасло ее. На секунды, не более. Скорость была такой, что водитель не сумел бы избежать вырытой взрывом большой ямы, если бы даже захотел. Машина на скорости нырнула в воронку. Полыхнул яркий факел взрыва. Следующая за ней вторая иномарка резко тормознула, свернула на обочину, чудом не перевернувшись, пронеслась по кювету и вновь выскочила на дорогу. Грохнула очередная мина. Это Федя, дабы не испытывать судьбу, следом за первой выбросил в освободившийся оконный проем и вторую. Иномарка резко замедлила ход и остановилась. Затем... развернувшись, на полных парах понеслась назад, в Николаевку.
— Федя, мы победили! — восторженно заорал Корзырь. — Видишь, они удирают?
— Вижу, не слепой, — Федя на заднем сиденье вытирал пот с лица, подставляя его свежей струе воздуха. — А вдруг они вертолет поехали для подкрепления вызывать? «Базуки» у меня, к сожалению, нет!
Приятели переглянулись и вдруг захохотали весело, облегченно, до колик. Нервы... В Донецк заезжали уже по-темному. А в Николаевке в это время баба Зина, перепрятав, наверное, в пятнадцатый раз привезенные Козырем три с лишним миллиона рублей — на потом, на похороны себе, — примеряла у мутноватого, треснувшего давно уже зеркала золотую цепочку с крестиком — все, что осталось от сокровищ Ивана Федоровича Гребова. Она улыбалась чему-то своему, а по щекам катились скупые старческие слезы. Чего — невысказанного счастья, благодарности или ностальгии по давным-давно прошедшей молодости? Этого никто никогда не узнает — бабушка не скажет.
Услышав звук подъехавшей машины, Гек выскочил на крыльцо.
— Вот это сюрприз! Вы что, ясновидящие? Я ведь только что в тридцатый раз звонил!
— Ну и как — ответили? — поинтересовался Козырь.
— Пока нет.
— Ты лучше вообще выбрось из головы этот номер, — посоветовал Федя, — а то там такие бяки могут ответить... В общем, мы там больше не живем.
— Что-то случилось? — спросила Женя.
— Не то слово! — Санька и Федя принялись здесь же, у крыльца, рассказывать про свои двухдневные приключения, умолчав, естественно, о ночном эротическом шоу. Но восхищаться «амазонками» никто не мешал, более того — встав в позу, Женя торжественным шепотом заявила, что все они — ее подруги.
— И Кира, и Лада? — принялся уточнять наивный Федя.
— Они — в первую очередь, — подтвердила Женя и спросила с подозрением: — А почему это вы их так выделяете?
Вконец смутившийся Федя начал лепетать что-то о заржавевшей футорке, но его выручил Козырь.
— Да потому что они там за главных у них — вот почему. Вы лучше скажите: место в этом доме найдется, чтобы выспаться почеловечески, или опять придется в машине кемарить?
— Найдется, — успокоил его Гек, — не наверху, так внизу обоснуетесь, у Паши. Отсыпайтесь, а завтра — снова в дорогу. Поедем в одно место. Красивое, говорят, но гадючье, так что нужно быть готовыми ко всему.
— А нам что, привыкать? — подмигнул ему Федя. — Покурим вот и пойдем в ваш плацкартный.
— Куда? — удивился Гек.
— Ну, верхние и нижние места в плацкарте бывают, не купейный же вагон у вас, тем более — не СВ, — засмеялся Федя. Остальные поддержали шутку.
— Женя, прочти что-нибудь на сон грядущий, — попросил Гек.
— Это стихотворение я придумала сегодня вечером, — сказала Женя, вглядываясь в ночное звездное небо, и начала декламировать:
Все сроки вышли, а тебя все нет,
И ночью сон — не сон, а бред — не бред.
— Ну отзовись! — молю ночами небо.
— Ну передай хоть маленький привет!
В виски набатом бьют колокола,
Разлука между нами пролегла,
Десяток лет, а для любви — столетье.
Эх, если бы я столько ждать могла!
Ни пламя догорающей свечи,
Ни звезды уходящей в свет ночи
Письма к тебе ни строчки не подскажут.
Все, как живое — дышит, но молчит.
Ну как в бумагу душу мне вложить —
Избитых слов архив разворошить?
Ведь словарей любви не существует,
И мне самой судьбу свою вершить.
Любовь в конверте, запертом на клей,
Домчит к тебе созвездье Водолей.
Поведала луне и небосводу:
— Ты для меня всех краше и милей !
Боготворю любовью неземной,
Кричу тебе: — Приди и будь со мной!
...Но, может быть, меня ты не услышишь
За чьей-то заслонившей мир спиной?
— Интересно мне очень, — после некоторого раздумья произнес Санька, — а кому все-таки предназначено это послание? — он хитро взглянул на Женю.
В падающем из окна свете видно было, как она вспыхнула, хотела что-то ответить, но не стала — повернулась и влетела в дом.
— Эх ты, деревяшка! — постучал его по голове Федя. — Пора бы тебе знать уже, что стихи не обсуждаются — их душой надо принимать.
— Ну, если она у тебя такая широкая, что принимает и «Распутина», и стихи вперемешку — пожалуйста, принимай, — огрызнулся в ответ Санька, — а я не поэт, мне надо все разложить по полочкам.
— Бросьте цапаться, — вмешался Гек, — нам завтра дальняя дорога предстоит.
— Пошли лучше к Паше Квадрату.
Паша не спал и был мрачнее тучи — он сегодня прозевал, пока дед Федя опохмелялся, а теперь было поздно — тот отключился. Гек отказался «принять по соточке» наотрез, а к Жене Паша и подкатываться не стал. В одиночку он никогда не пил.
— Принимай квартирантов, Паш! — Гек с друзьями спустился в подвал. — Устроишь на ночь?
— Без проблем, — буркнул тот и уже безо всякой надежды спросил: — Примете по соточке?
— А найдется? — в один голос спросили Козырь и Змей. Паша аж прослезился от радости — есть же Бог на белом свете!
Глава XXI
ВЕСЬ МИР — ДУРДОМ!
Собирался Игорь недолго: надел спортивный костюм, куртку на синтепоне с капюшоном и кроссовки — половина Москвы так ездит. Оставалось одно — незамеченным выйти из гостиницы — наверняка ведь «пасут». Ну, это проблемы не составило — поднялся на четвертый этаж, зашел в ресторан, а там — через служебный ход на другое крыло здания. И вышел совсем в противоположном вестибюле. Он успел на предпоследнюю электричку до Александрово, сел в средний вагон, купил у разносчика «Московские новости» и почти два часа до Сергиева Посада «обрабатывал» сообщаемую в них информацию...
В Кленовом переулке Игорь был уже в десять часов вечера. Стемнело. Он прошелся мимо дачи — свет горел лишь на самом верху здания. Видимо, Коляй, за неимением компании, сам перерабатывал виски. Наконец, он решился — быстро вскарабкался по кованым завитушкам ворот и через две секунды был во дворе. Подошел к двери, прислушался — тишина, только еле слышно доносились звуки очередного шлягера Анжелики Варум.
— Балдеет Коляй, — усмехнулся Игорь, достал связку ключей, найденных в Олесиной шубке, и ощупал скважину замка. По идее, должен был подойти вот этот, самый большой. Он вставил ключ в замок, повернул с чуть слышным щелчком, входная дверь отворилась. Шагнув внутрь, Игорь притворил за собой дверь — замок вновь щелкнув, и огляделся. В слабом сумраке еле угадывались контуры каких-то массивных предметов близ огромного окна, а дальше все терялось в темноте. Вот когда он пожалел, что не принял днем приглашение Коли. Ну что ж, есть еще один выход. Игорь на ощупь пробрался к окну, присел на корточки, зажал в зубах китайский фонарик-авторучку и, достав план дачи, свернутый вчетверо, набросил на голову капюшон и завернул полы куртки через голову. Получился этакий темный шалашик, в котором он рискнул зажечь фонарик. Затем принялся водить лучиком-паутинкой по фойе. Внезапно под курткой посветлело настолько, что план стал различим без фонарика. Игорь похолодел, увидев, что свет пробивается снизу из-под ног. Он рывком отбросил полы куртки на место, яркие лампы люстры ослепили, заставили зажмурить глаза. А когда открыл их спустя некоторое время, увидел, что в прихожей он не один! Удивленно-негодующе поглядывал на него Коляй, стоящий у входной двери с револьвером в руке, а в креслах у столика, расположенного возле огромного, в полстены, камина сидели Агафонов и... Костя Гальчевский. Первый смотрел на Игоря с насмешкой и удовлетворением, второй — с откровенной ненавистью и злорадством. Молчание нарушил Эдуард Михайлович: