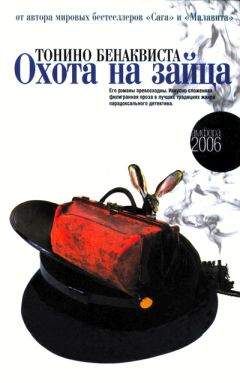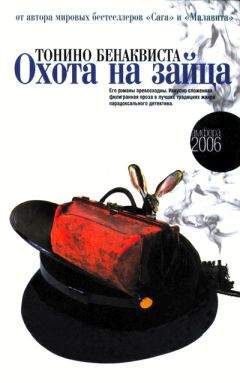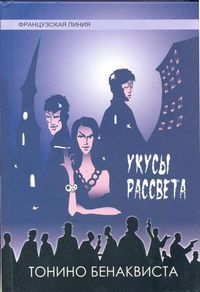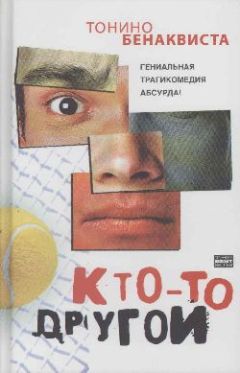Тонино Бенаквиста - Охота на зайца. Комедия неудачников
Покачиваясь, я кое–как добрался до тропы и поплелся по ней, словно слепой, но без ловкости и сноровки. Меня мотало от дерева к дереву, и я ковылял так довольно долго, пребывая в уверенности, что проделал уже весьма большой путь, тогда как в действительности проделал всего несколько десятков метров. В какой–то миг мне показалось, что я никогда не выберусь отсюда и что вопреки всем своим усилиям упаду в канаву и останусь там лежать, пока кто–нибудь меня оттуда не вытащит.
И упал — долго ждать не пришлось.
Несмотря на полузакрытые веки и туман в глазах, я все–таки сумел заметить эту малолитражку, почти бесшумно вывернувшую из лесу и невероятно медленно заскользившую в мою сторону. Она сбила меня с ног, и я упал на капот, безуспешно пытаясь за что–нибудь уцепиться. Без малейшего рывка машина остановилась, но мне не хватало сил, чтобы распрямиться и встать на ноги. Несмотря на то что в голове у меня все перемешалось, я сообразил, однако, что целью этой игры отнюдь не было проехаться по мне колесами.
Появился чей–то силуэт. Меня вырвало прямо на ветровое стекло.
— Было бы так легко вас сейчас прикончить, а потом спокойно продолжить свой путь, — сказал чей–то голос, отдаленно знакомый.
Пришлось даже зажмуриться изо всех сил, чтобы попытаться определить, кому он принадлежит. И тут я со смущением осознал, что достиг самой критической фазы опьянения, той туманной и зыбкой грани между эйфорией и болезнью, когда ты готов отдать все на свете ради того, чтобы прямо здесь и сейчас рухнуть наземь и чтобы тебя навеки оставили в покое. И ведь надо же — этот мерзавец подловил меня как раз в такой момент.
— Но мне нужны не вы, а ваша земля.
И в то же время какая–то загадочная химическая реакция между алкогольными парами и мозговыми извилинами дает в результате внезапное протрезвление. Трезвеешь даже как–то чересчур. И тебе становится решительно наплевать на все, что с тобой может произойти. При слове «земля» я расхохотался. Как только мне удалось избавиться от переполнявшего меня вина, я выблевал целые потоки слов, в этот раз на своем родном языке, и это было чертовски здорово — вновь вернуть себе способность изъясняться по–французски. Хныкать по–французски, оскорблять по–французски, ухмыляться по–французски.
— Сделайте еще одно усилие, синьор Польсинелли. Мое предложение было серьезным и великодушным. Продолжая отказываться, вы все равно не отделаетесь от меня.
Портелья. Я его узнал наконец. Я ведь говорил себе, что рано или поздно он сбросит маску.
— Плевал я на тебя…
— Будь я на вашем месте, синьор…
— Пошел ты знаешь куда! Я пьян, и мне на тебя…
Он куда–то исчез на мгновение и вновь появился, держа в руке тонкую блестящую штуковину.
— По доброй воле или через силу вы все равно избавитесь от этого виноградника. Однако время поджимает, и он мне нужен как можно скорее. Но еще скорее можете сдохнуть вы сами, если будете тянуть с продажей. Я ведь и до Франции доберусь, чтобы вас прирезать.
Приблизив блестящую штуку к моему лицу, он чиркает ею по щеке. Становится горячо. Немного щиплет. Когда он убрал ее от моей щеки, я смог рассмотреть, что это такое. Просто бритва. Как у того римского брадобрея. Я тогда вообще в первый раз увидел ее вблизи. Когда струйка крови достигла шеи, я вновь представил себе, как ползу в ванную после выстрелов, а также запах спирта и вопли гуляк с балкона напротив.
— Вы по–прежнему отказываетесь это обсуждать?
Прежде чем ответить, я обождал мгновенье.
— Сейчас… еще меньше… после этой ночи…
Потому что после этой ночи я наконец–то начал понимать, что же такое было сокрыто в этой земле. Я понял, что мало было возделывать ее, копать и перекапывать, чтобы извлечь из нее что бы то ни было. Прежде всего ею надо было владеть. Быть ее собственником. Вот почему этот подонок меня сейчас не убьет. Но зато и он знает наверняка, что в полицию я на него не пожалуюсь.
— Поймите меня правильно, синьор Польсинелли. Вам будет недостаточно того, что ваше имя написано на каком–то клочке бумаги, чтобы действительно стать владельцем этой земли. Местные ребята вам этого не простят, вспомните, что стало с вашим дружком Дарио. Вы кончите так же, как он, и по тем же самым причинам…
— Va fan' cullo.[49]
Его лезвие у моей шеи.
Я жду, когда он резанет.
Мгновение…
И тут я услышал треск.
Портелья упал на меня. Моя голова снова ткнулась в ветровое стекло, и наши с ним тела, перекувырнувшись, шлепнулись на дорогу. Я стиснул зубы, чтобы не потерять сознание. Мы лежали голова к голове. Из моей головы на его что–то стекало. Мне никак не удавалось отлепить свою щеку от его лба. И я потерял сознание.
*
Грязный свод с разбегающимися во все стороны трещинами. Квадратики травы, проросшей сквозь плиты пола. И святой с распростертыми руками, взирающий на меня с высоты…
Рай…
Еще полностью не придя в себя, я дотаскиваюсь до статуи, чтобы прикоснуться к ней и удостовериться, что мы все еще составляем часть материального мира. Я вскрикнул, лаская ее каменное подножие.
Мне хорошо тут, в часовне. Сам Сант'Анджело, должно быть, хранил меня. Не дал умереть. Машинально я поднес руки к лицу, потом к шее. Ничего. Ни малейшей царапины.
— Какого черта я тут делаю, benedetto Сант'Анджело? А? Мне что, надо говорить по–итальянски, чтобы ты удостоил ответом? Ну уж нет, хватит с меня этого языка…
Я выбрался наружу. Слепого и след простыл. Чуть подальше, на тропе, я некоторое время искал машину Портельи, опасаясь наткнуться где–нибудь неподалеку на его бездыханное тело. Но обнаружил лишь несколько пятнышек крови там, где мы упали. Чья это — моя или его? Кто знает.
*
Проходя мимо кухни, я отвернулся, чтобы не напугать Бьянку своим видом. Напрасная предосторожность, она еще не вернулась с рынка; я увидел из окна, как она торгуется за арбуз к обеду. На столе меня поджидала записка: «Еда в холодильнике, постель застелена». В несколько секунд я собрал свою дорожную сумку и, в свою очередь, тоже нацарапал записку: «Уехал на несколько дней. Вернусь к Гонфаллоне». И вышел.
Четыре часа спустя я сидел в автобусе, направляющемся в столицу. Как и по дороге сюда, я опять устроился рядом с водителем. Моя спешная командировка в Рим должна помочь, кроме всего прочего, забыть недавний ночной кошмар. И еще я хочу выспаться денек–другой перед большим прыжком. Но самое главное — проверить на бумаге, так ли гениален был Дарио, как он сам это утверждал. В Сору мне необходимо вернуться к празднику. К Гонфаллоне. Так или иначе, все сводится именно к этой дате — двенадцатое августа. И лишь пережив этот день, я узнаю, стоило ли все это таких усилий. Только тогда я смогу вернуться домой с легким сердцем, довольный уже тем, что попытался воплотить в жизнь мечту друга детства.
Проезжая по Риму, я бросил взгляд на Колизей, потом на монумент в честь Виктора–Эммануила. Сами римляне называют первое «камамбером», а второе — «пишущей машинкой». Даже если и то и другое заслуживает таких прозвищ, я все–таки не уверен, что так уж много римлян близко знакомы с камамбером. Поиск комнаты я начал, повинуясь какому–то рефлексу, неподалеку от вокзала. Оказалось достаточным заглянуть в первый попавшийся ресторанчик, где официант тут же сообщил мне адрес лучшего пансиона с лучшим постельным бельем и лучшей горячей водой во всем квартале и, как будто я сам еще этого не понял, порекомендовал явиться туда от его имени. И попутно добавил, что готовит лучшие «тальятелли» на этой улице.
Несколько часов спустя я проснулся в такой огромной постели, что чета новобрачных вполне могла бы там поместиться вместе со всеми своими свидетелями. Мне это удовольствие обошлось на десять тысяч лир дороже, но я не жалею. Хозяин — здоровенный бородач лет пятидесяти — весьма любезен и не прочь поболтать с клиентами, как только речь заходит о его любимом городе.
— Сколько времени пробудете у нас?
— Мне надо вернуться одиннадцатого утром.
Он достает из кипящей воды длинную макаронину, изучает ее, не пробуя, потом бросает обратно в воду и гасит огонь.
— Только три дня? А вы знаете, сколько их понадобилось, чтобы построить Рим?
— Да уж, конечно, не один день, это все знают. Хотя, как же так получилось, что хватило одной ночи, чтобы его спалить?
— Скажете тоже… Все это враки! — добавил он, размахивая шумовкой.
— А вы их не пробуете, прежде чем подавать на стол?
— Я–то? Никогда. У каждого, правда, свой метод. Я на них смотрю, этого достаточно. Но могу, однако, доказать вам, что они уже в самый раз, даже еще лучше, чем если бы вы их пробовали.
Он выхватывает одну макаронину и швыряет ее о стену.
— Вот, смотрите. Если бы она была еще сырая, то не прилипла бы, а если переваренная — то сползла. Здесь макароны варятся лучше всего, потому что мы как раз на уровне моря.