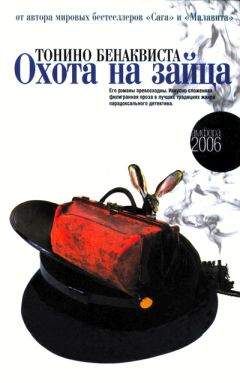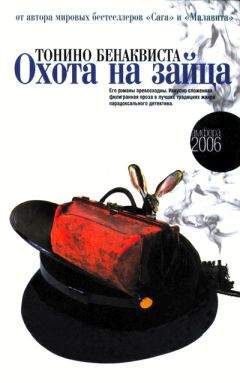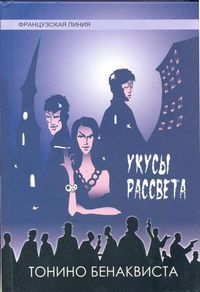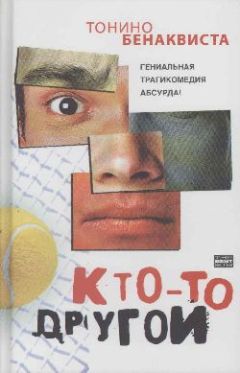Тонино Бенаквиста - Охота на зайца. Комедия неудачников
Я нашел этот вопрос совершенно безобидным по сравнению с предыдущим.
— Pasta asciutta.
— Это макароны либо совсем, либо почти без соуса, — пояснил я.
Оба инспектора скептически переглянулись. Один из них сказал мне, что в таких случаях обязательно делается вскрытие. Судя по тому, что было обнаружено в желудке у Дарио, он за два часа перед смертью съел порцию макарон. И ничего другого. Я чуть было не спросил, каких именно, но вовремя сдержался, представив на мгновение ту клейкую массу, которую они там нашли.
— Конечно, он мог их съесть где–нибудь в другом месте, а вовсе не здесь. Там оказалась еще кукуруза и какая–то трава, скорее всего мята.
— И еще одуванчики, — добавил второй.
— Ну да, одуванчики. Еще бы! Это она и есть, ваша «паста шутта»? А? Спросите у нее, мог ли ее сын найти такое у них в холодильнике? Может, остаток чего–то там… или даже не знаю.
Когда я сказал ей о кукурузе, одуванчиках и мяте, старуха посмотрела на меня так, будто я толкую о цианистом калии. Нет, мамаша Тренгони отродясь такого не готовила. И никакая другая итальянка никогда не намешает этакую гадость. И как только ее бедный Дарио сумел все это проглотить. Да я и сам почти уверен, что названные ингредиенты не входят ни в один известный рецепт приготовления макарон. Что–то тут не так.
— Спросите у нее, было ли у ее сына оружие.
Ответ мне известен заранее.
— А вам, господин Польсинелли, он показывал когда–нибудь огнестрельное оружие? Пистолет? Кстати, пуля, которая его убила, была девятимиллиметровая.
— Никогда ничего такого в его руках не видел. К тому же я вообще в этом ничего не смыслю.
Кажется, мамаша Тренгони вдруг решила, что с нее хватит. О чем тут же и заявила мне на своем наречии: «Пускай убираются ко всем чертям…»
Никогда мне не везло с этим языком.
Но они, казалось, сами все поняли — встали и собрались уходить, признавшись на прощание, что старуха не слишком–то облегчила им задачу. Они поблагодарили меня еще раз, взяли на заметку мой телефон и ушли, было около одиннадцати часов вечера. Я собрался было двинуться за ними вслед, но мамаша Тренгони придержала меня за мою красную и потную руку, которую теребила не переставая в течение всего этого времени. Теперь, когда мы остались наедине, она захочет поговорить со мной о нем на диалекте, который уже начинает звучать в моих ушах все более и более естественно.
— Ты мне тоже дашь свой телефон, Антонио?
Как тут откажешь? Да у меня на это не хватило бы и времени — она сразу же протянула мне бумажный лист и открыла ящик стола, где я увидел россыпь шариковых ручек того же темно–синего цвета, что и зажигалка, от которой я пытался прикурить во время нашей беседы. Взглянув на них во второй раз, я сообразил, что и та ручка, которую Дарио всучил мне, чтобы писать письмо, тоже, видимо, из этого ящика. Она протянула мне одну из них, и я нацарапал свой номер. Уже на втором предмете вижу я одну и ту же надпись готическими буквами: «Частный клуб «Up», ул. Георга V, 43». С сыном этот адрес вяжется гораздо больше, нежели с матерью. И я сунул ручку в карман своего траурного пиджака.
— Надо было Дарио держаться к тебе поближе. Ты был ему хорошим другом. Уж лучше бы он тоже уехал в Париж и нашел там себе какое–нибудь ремесло, чем околачиваться здесь попусту. Три месяца назад он мне сказал, что хочет вернуться назад, в Сору, и заняться тем клочком виноградника, который у нас там еще остался. Может, для него это было бы самое лучшее. В Париже или в Соре, но только не здесь. In questa strada di merda…[41]
*
Я снова завернул к моим родителям для отчета по полной форме. Мать приготовила блюдо из ботвы репы и еще мелкие, напоминающие пульки макароны в курином бульоне. На настоящий соус духу не хватило, призналась она. Я принялся цедить бульон прямо из кастрюльки, стоявшей на плите, а отец даже приглушил звук телевизора, чтобы не упустить ничего из моего рассказа. Я смирился со своей участью, хотя меня не покидало ощущение, что Париж уже заждался меня и что, как только я разделаюсь, наконец, с этими похоронами в предместье, такими тоскливыми, что хоть сам ложись да помирай, мои траурные костюм и галстук тотчас же угодят в огонь.
Я в общих чертах пересказал нашу беседу и спросил у своего старика, что такое девятимиллиметровый калибр. Может, он еще и помнил об этом, но ответа не удостоил.
— Самое смешное: Дарио перед смертью сказал, что собирается возделывать виноградник. У них там еще осталась какая–то земля?
— Виноградник возле Сант'Анджело?
— Не знаю.
— Cretino.
Я упомянул о макаронах, обнаруженных в желудке убитого, и тут отец вдруг вскочил на свою здоровую ногу и заковылял ко мне. Он подавил свое удивление и как ни в чем не бывало попросил повторить.
— Что повторить?
— Про кукурузу.
— Ну… хм… прежде чем умереть, он съел какое–то блюдо из макарон с кукурузой.
— А еще с чем?
— Они упоминали мяту… и одуванчики.
На какой–то миг он застыл в молчании, потом попросил стул и уселся на него ко мне лицом, строго приказав хоть на секунду прекратить хлебать этот дурацкий суп.
— Кукуруза, мята, одуванчики?.. Это точно?
— Ну да. Хотя я сроду ни о чем таком не слыхал. Верно, ма? Ты сама когда–нибудь готовила такое?
Мать, встревожившись, поклялась перед Господом Богом, что никогда в жизни не соединила бы три этих ингредиента в одной кастрюле. Она даже не знает, что это за мята такая. Но ей тут же захотелось узнать, какие именно макароны нашли.
— Pasta fino о pasta grosso?[42]
Я ответил то же самое, что и судебный врач: поди узнай теперь…
Внезапно отец принялся бормотать что–то неразборчивое, словно пьяный, потом проковылял к маленькому буфету и вытащил оттуда бутылку граппы. Мать и слова сказать не успела, как он уже хлебнул пару раз прямо из горлышка и замер на секунду, чтобы остудить обожженную глотку. Эта бутыль была для него под запретом, и он это знал. Но мать, видимо, почувствовала, что сегодня вечером он не потерпит никаких возражений. Впрочем, мне все–таки любопытно было узнать, с чего это вдруг ему пришла охота глотнуть чего покрепче.
Ставя бутылку на место, он произнес одно–единственное слово:
— Ригатони…
Секундное замешательство.
— Что ты этим хочешь сказать? При чем тут ригатони?
— При том, что это их он съел. Ригатони.
— Откуда ты знаешь?
— Оттуда. Знаю, и все тут.
Веский аргумент, ничего не скажешь. Он такие доводы просто обожает.
— Да объяснишь же ты, наконец, роrсо Juda!
Кстати сказать, ригатони — это такие крупные макароны, не только с солидным отверстием, но еще и рифленые, чтобы как следует впитывать соус. В общем, достаточно внушительный калибр, чтобы любую семью расколоть надвое, когда одни «за», другие «против», а у нас в оппозиции всегда был один только отец. Он терпеть не может макароны, которые надо есть поштучно, когда одной макаронины достаточно, чтобы набить рот. Зато он страстный поклонник капеллини, самых тоненьких из спагетти, которые ломают натрое, прежде чем бросить в кипяток, и варят буквально несколько секунд. Возможно, ему нравится лавирующее, словно в слаломе, движение вилки среди этой зыбкой энтропии, а может быть, ощущение чего–то невесомого, почти газообразного, прикасающегося к нёбу. Кто знает. Но от своего он не отступается. Он, правда, и раньше всегда кривился, когда матери случалось готовить нам ригатони, но приплетать их к смерти Дарио — это он хватил лишку.
— Может, скажешь все–таки, в чем тут дело? — спрашиваю я его с полуулыбкой, но слегка возвысив голос.
Вместо ответа он вновь включает телевизор и устраивается в своем кресле. Звуки шарманки — позывные киноклуба со второго канала — погружают нас в какую–то странную атмосферу.
— Оставь меня, я смотрю фильм.
Мать украдкой делает мне знак, чтобы я бросил эту затею. В конце концов, она его лучше знает.
Мне пора, иначе упущу последний автобус. Прежде чем уйти, целую отца. Не надо бы ему дольше тянуть с лечением.
— Когда ему в санаторий?
— Завтра утром, — отвечает мать. — Сама жду не дождусь… — добавляет она так, чтобы отец не услышал.
Я уже на пороге и все–таки еще медлю. Это я–то, которого никогда раньше не приходилось упрашивать, чтобы сбежать отсюда поскорее. И вот надо же — ухожу почти через силу. В последний раз:
— Слушай, а при чем тут все–таки ригатони?
Он вскакивает рывком. Я ко всему был готов, но только не к этому; он вдруг начинает орать на меня, обзывает кретином, велит немедленно убираться к себе в Париж, а в этом доме, мол, мне больше делать нечего.
Мать тем временем вышла из комнаты, наверное, чтобы избежать его гнева, а он продолжает с новой силой. Ему, мол, и без того довольно мучительно — уезжать в какую–то больницу, где ни одной живой души не будет, чтобы ему помочь, потом неожиданно заключает, что я тоже допрыгаюсь и что меня ждет такой же конец, как и Дарио.