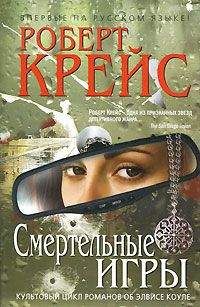Фруде Грюттен - Плывущий медведь
Отец смотрел любительскую запись с совершенно отсутствующим выражением. Совсем не так, как футбольный матч, когда весь ход игры отражался на его лице. На позе. На выборе бранных слов. А сейчас он сидел совсем тихо.
— Еще раз прокрутить? — спросил я, когда запись закончилась.
Он покачал головой.
Я молчал. Ждал, пока он сам прокомментирует то, что увидел. Он пошел к холодильнику и вернулся с двумя стаканами виски. Вручил мне один и снова сел. Молча. Я подумал, что отец пытается найти логику или систему в увиденном, понять значение нестыковок.
— Они разрушили всю Одду, — сказал он. — Разрушили всю Одду, а никому и дела нет.
Он сказал, что можно хоть сейчас взять телефонный справочник и вычеркнуть оттуда все компании, которых больше не существует. Все позакрывавшиеся офисы. Все съехавшие отсюда организации. Осталась лишь городская больница, но и это только вопрос времени. Отличный способ отделаться от города. Разрушать его понемногу. Отключать по чуть-чуть. Уничтожать по таким мелким кусочкам, что никто не заметит.
Отец выпил стакан до дна. Провел ладонью по губам и взялся двумя пальцами за переносицу.
— Откуда у тебя эта кассета? — спросил он.
— От Артура Ларсена, — ответил я.
Он кивнул так, будто это отлично ложилось в его систему.
— Вот так от дерьма и избавляются, — сказал он.
— Что?
— От дерьма, говорю, избавляются.
Он сказал, что слышал, что такое делали и в других городах. Владелец нарочно не дает развиваться производству, чтобы потом зарубить на корню предприятие. И еще до создания комиссии по банкротству распродает большую часть оборудования.
— Но не могут же они разворовать целый комбинат, — сказал я.
— Почему нет? — удивился отец.
— Их же разоблачат.
— Если смогут. Воровать — тоже искусство. Тибрить не все, а только самое ценное.
— А как же кредиторы?
— Кто станет связываться с комиссией по банкротству, когда ценного ничего не осталось? Только участок, покрытый чугунным ломом, токсинами и дерьмом.
Отец рассказал, что ходят слухи о тайных сделках между владельцами, компанией «Коэн бразерс» и немецкой фирмой «Гедусса», главным конкурентом. Говорят, новый директор летал во Франкфурт на встречу с какими-то американцами. Возможно, американские владельцы нашли надежного покупателя в Европе.
— Ты уверен, что в кадре — наша плавильня? — спросил я.
Он кивнул и сказал, что на съемке видны и цианамидная и дициандиамидная фабрики, и плавильный цех.
— Стало быть, это — доказательство, — сказал я.
— Не знаю, — ответил отец.
— Но кто-то знает, что там внутри.
— И что?
— Ты ведь тоже знаешь.
— И кто меня спрашивает?
— Но кто-то же должен об этом рассказать.
— Кто должен, тот либо не хочет рассказывать, либо получил приличные деньги за молчание.
— Вроде Ларсена?
— А что он? Ты с ним разговаривал?
— Пытался. Молчит.
Пауза.
— Вот так мы и вымрем, — сказал отец. — Весь город вымрет. Понятно, когда умирает один человек. Парень там в реке утонет, или женщина умрет от рака. Но когда вымирает целый город — это непонятно.
Я встал и спросил, где в заборе дыра. Отец уставился на меня и спросил, зачем мне это нужно. Я пожал плечами. Он рассказал мне, где она. Я направился к двери. Он пошел следом.
— Ты знаешь, что произошло на комбинате за последнее время? — спросил он.
Я кивнул. Об этом я как-то написал небольшую статью. Однажды рабочим сказали, что до конца рабочего дня их рассчитают и уволят. И никто не прихватил с собою ни робы, ни каски, ни инструмента. Когда они в последний раз выходили из ворот, их тщательно обыскивала охрана.
Отец ткнул мне пальцем в грудь.
— Если воровство достаточно крупное, оно сходит с рук, — сказал он.
Я вышел во двор. Плотная туча уже подобралась к солнцу, и вечер стал темнее. Намечался дождь. Я доехал до центра и остановился возле «Кооп-Меги». Вышел из машины и зашагал по тротуару вдоль восточной забегаловки. С бульвара я свернул в переулок. Нашел в заборе с колючей проволокой брешь и выждал некоторое время, проверяя, не шпионят ли за мной. Потом полез в дыру.
Территорию комбината покрывал тонкий известковый слой. От этого постройки и цеха казались заиндевелыми. Я медленно прошел мимо проходной, резервуара и мастерской. Я чувствовал себя неуютно, не зная, чего ждать и где искать. Всякий раз, оказываясь здесь, я понимал, насколько же комбинат огромен. В детстве нас никогда сюда не пускали, хотя тут работал наш отец. Это был для нас запретный мир.
Тогда я каждое утро просыпался от заводского скрежета и гула. Теперь здесь было тихо, и я мог слышать собственное дыхание. По долине сползала полупрозрачная пелена дождя. А за забором жил город, шумел машинами, ударами молотков, детским плачем и жужжанием электрической газонокосилки. Я подумал, что комбинат — это город в городе, со своими зданиями, улочками и узкоколейной железной дорогой. Все это было теперь заброшено, точно после войны или природного катаклизма. Комбинат был мертвым городом внутри города умирающего.
Я прошел мимо цианамидной фабрики к плавильному цеху, где работал мой отец. Огромный цех, черный от копоти. Я помнил слова отца о пространстве в плавильне. Чувствуешь себя маленьким. Ничтожным. Не способным управлять этими силами. Энергией, массой, теплом. Но в этом, говорил он, есть своя прелесть. Счастье заключалось в «своем месте». Как только ты вставал на «свое место», ты становился хозяином.
Я ходил вокруг большой печи, окруженной узкоколейкой с тиглями. Солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь крышу, вдруг погасли. Я подумал, что над заводом — тучи. И еще подумал, что мы с отцом — из разных городов. Его город — здесь, внутри моего. Сейчас жизнь покинула все эти здания. В комнате оператора висел, покосившись, календарь с видами Одды. На столе по-прежнему стояли кофейные чашки. На полке лежали две каски. На полу валялся журнал о машинах. Плакат с призывом к первомайской демонстрации.
Начался дождь. Капли падали на крышу и стекали между балками. На мгновение стало совсем светло, а через несколько секунд послышался грохот. Я считал секунды между вспышками молний и раскатами грома. Интересно, правду ли говорят, что в маленьких городках сволочи похожи на героев. В маленьком городе никогда нельзя быть уверенным. Ты думаешь, что что-то знаешь, а оказывается, что не знаешь ничего.
Возможно, отец прав, возможно — нет. И все эти теории о сговоре могли возникнуть у него от горечи пережитого. Но говорил он очень уверенно. Возможно, люди продолжали приходить сюда по ночам, по винтику растаскивая завод, как в последнюю неразрешенную смену. Возможно, это было такое крупное воровство, что даже могло сойти с рук. И даже узнай о нем в полиции или Крипосе, расследовать эту аферу кажется невозможным. Пара месяцев — и дело закроют.
Кроме того, виновные — по другую сторону Атлантики. Братья Коэн продали право на электроэнергию. Лишили людей работы. И в итоге — выпотрошили комбинат, вынули сердце из сердца города, примерно так же, как богачи похищают органы у бедняков.
Я спокойно стоял на лесах. И вдруг услышал шаги. В плавильню кто-то вошел. Я больше не один. Я стал лихорадочно придумывать, что бы сказать, если меня здесь застанет охранник или кто-нибудь еще. Ничего путного на ум не шло. У меня не было хорошего объяснения, почему я здесь.
От теней внизу отделилась фигура. И только когда между нами оставалось метров десять, я понял, что это олень. Он подошел к карбидной печи. Я слышал, что на территории завода живут лисы, но что здесь еще разгуливают олени! Наверное, этот олененок забежал сюда, испугавшись грозы. Я продолжил карабкаться по лесам. Олень обернулся на меня. Он не казался ни смущенным, ни напуганным. Он просто смотрел на меня и часто дышал.
~~~
Квартал в Нюланнсфлате казался безлюдным, но, когда я пошел по проулку, шторы зашевелились. В одном из окон я увидел седые волосы и нос, прижатый к стеклу. На двери рядом было написано: «Вибеке и Артур». Я позвонил. Никто не вышел. Где-то работало радио, но я не мог определить, у Артура Ларсена или у соседей.
Я удивился, узнав, что он живет здесь. Завод построил эти блочные дома в пятидесятых, чтобы обеспечить жильем рабочих. Райончик тут же окрестили «Чикаго». Теперь коммуна, выкупив большую часть домов, селила здесь пенсионеров, иммигрантов и безработных. Мусорные баки были переполнены, и уже на подходах к району стояла жуткая вонь.
Дождь поутих. Скоро небо опять прояснится. По проулку прошмыгнула вымокшая собака. Отряхнулась и посмотрела на меня так, будто мы могли стать друзьями. Я взялся за дверную ручку. Она была теплой. Я вошел в прихожую и остановился. Ничего не происходило. Я прошел дальше — в гостиную. На затылке у меня выступили капли пота. Одна из них покатилась по спине. Комната пахла болезнью, сном, пылью и медикаментами. На стене тикали часы. Я скользнул взглядом по фотографиям, книгам и блокам тетрадей.