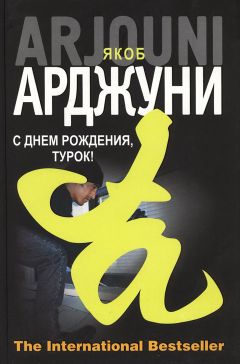Якоб Арджуни - Кисмет
— «Саудаде» была моя любимая…
— Знаю, знаю… Твоя возлюбленная. Но в последнее время стала дорого тебе обходиться. Ну да все равно. А что мне не все равно, так это две вещи: во-первых, я боюсь огня и ненавижу поджигателей, особенно если они поджигают городской дом в близком соседстве с другими домами, к тому же рядом с газопроводом. Во-вторых, я думаю, что, когда возник пожар, ты находился в своем любимом «Саудаде», и в этом есть и моя вина. Ты легко мог стать третьей жертвой на моем счету. Эта мысль для меня невыносима до тошноты — можешь поверить. Когда наш домоуправ рассказал, что какой-то неудачник пытался открыть мою квартиру чужими ключами, мне постепенно стало ясно, что ты остался жив.
Ромарио опустил голову, стреляя глазами, как затравленный кролик. Он был на двадцать сантиметров выше меня, поэтому выглядел скорее как разъяренный лось, бодающийся рогами из торчащих во все стороны черных лакированных волос.
— Я не знал, куда деваться. В свою квартиру идти боялся, мой номер есть в телефонной книге, и эти бандиты могли меня там поджидать. А еще…
Он поднял голову и посмотрел на меня так, словно хотел сказать: хорошо, ты сказал правду, только убирайся со своей правдой куда-нибудь подальше и будь с ней счастлив, но не забывай, кто тебе ее выдал — на свое несчастье. Но в действительности он сказал следующее:
— Пожар так быстро распространился, что я оставил свою сумку в «Саудаде». Там было все — паспорт, деньги, кредитки. Все пропало! Я даже не мог снять номер в отеле.
— А почему ты не пошел в банк?
— Филиал моего банка находится на углу, где и «Саудаде», и я не хотел светиться там.
— Прекрасно. — Я показал ему на стул. — Садись. Выпить хочешь?
— Спасибо. Не откажусь.
Медленно и осторожно, как старик, он сел на стул, выставив перебинтованную руку прямо перед моими глазами.
— Поесть чего-нибудь найдется?
Я утвердительно промычал, поставил на стол водку и стаканы, хлопнул банкой сардин по столешнице и дал ему консервный нож и початую пачку хрустящих хлебцев.
— Извини, больше ничего нет.
— Вполне достаточно, — ответил он, глядя на сардины, будто только этого ему и не хватало в жизни.
Я налил водки, мы выпили. Ромарио вскрикнул:
— Ух ты, мать честная, это на пустой-то желудок!
Потом он попытался открыть банку здоровой рукой, подпирая ее локтем. Не выдержав, я сам открыл банку. Ромарио поблагодарил, но перестарался, рассыпаясь в благодарностях, так что я чуть было не швырнул ему в морду банку вместе с открывалкой.
— И что дальше?
Выжав из банки последние капли масла и вылив их на хлеб, Ромарио отправил кусок в рот. Дожевав, он сказал:
— Я думал, сначала надо будет лечь на дно и посмотреть, как будут развиваться события.
Он выжидательно смотрел на меня. Я отвернулся.
— Ну вот, потом я все обдумал и решил, что, если… если ты не будешь возражать, может, я останусь у тебя на несколько дней?
Я долго смотрел на него, не понимая, почему это ему вдруг стало приятно мое общество, или он действительно был так одинок и уже дошел до ручки, что был готов терпеть мое брюзжанье ради места на софе. Я налил себе водки и зажег сигарету.
— А почему ты, как мы договаривались, просто не уехал на пару месяцев куда-нибудь на юг?
Это был даже не вопрос, а, скорее, вздох. К великому удивлению я получил ответ.
— Как же я мог уехать? Нет, я не мог! — в отчаянии воскликнул Ромарио.
— Что значит, не мог?
— Я… — Он уставился в пол. — Я же не могу лететь никуда, кроме Бразилии, но на билет туда у меня нет денег. Ты прав, в последнее время дела в «Саудаде» шли неважно, а если честно, то я — на нуле. На билет, может быть, и наскреб бы, но приехать домой после стольких лет отсутствия пустым, не имея возможности пригласить друзей за праздничный стол — нет, я не могу.
— Кроме Бразилии есть и другие края. Майорка, например. Туда бы мы собрали тебе на билет.
Он поднял голову, и его лицо исказилось от бешенства.
— Я же сказал, что не могу лететь, куда попало. Для этого нужна виза, а на это нужно время, и в результате мне ее не выдадут.
— Подожди… Это значит, что у тебя нет гражданства, а только вид на жительство?
— Ну да!
— Ах, вот в чем дело. Но ты же говорил, что летом отдыхал на Лазурном берегу или где-то там еще?
Несколько минут он буквально сверлил меня глазами, словно выискивал повод обвинить в жестокости, но потом снова потупил взгляд, опустил плечи и сникшим голосом добавил:
— Да, рассказывал.
— А где ты был на самом деле?
— Сидел в своей квартире. — Слова сейчас вылетали у него, как из автомата. — Иногда на пару дней выезжал на озеро с палаткой.
— Слушай. — Затушив сигарету, я перегнулся через стол. — Ты что, хочешь разжалобить меня?
Не поднимая глаз, он покачал головой.
— Можно еще глоток?
— Наливай себе.
Он налил водки, выпил и отставил стакан. Вдруг Ромарио преобразился, стал собранным. Положив руки на подлокотники, он, уставившись в стол, стал объяснять мне свою жизнь.
— Я больше двадцати лет живу в Германии, работаю и так далее. Каждый год я должен являться в Комиссию по делам иностранцев, чтобы продлить срок пребывания у тех чиновников, которым все равно, где жить — здесь или в Билефельде. А мне не все равно. Во Франкфурте я заработал свои первые деньги, снял первую квартиру и в первый раз серьезно влюбился. От всего этого почти ничего не осталось, но этот город говорит мне, что можно начать все сначала и даже добиться успеха. И как бы ни складывались мои дела, в этом городе я чувствую себя человеком. Я выучил немецкий, могу отличить «Хёникен» от «Биндинга»[2], знаю, где можно дешево купить автомобильные покрышки, знаю пивные, которые не известны немцам.
Он сделал паузу, потянулся за бутылкой и налил нам обоим. Внешне Ромарио был совершенно спокоен, только горлышко бутылки громко билось о край стакана.
— Но как я уже сказал, каждый год я должен клянчить у этих бюрократов, чтобы они продлили мне визу еще на год. Каждый раз приходится доказывать, что у меня есть работа и квартира, что я не состою ни у кого на иждивении. И вот сижу я там среди других нищих кретинов, которые начистили ботинки, надели свежую рубашку, чтобы произвести хорошее впечатление на какого-нибудь Мюллера или Майера, потеют, курят, сидя на полу, потому что на всех не хватает стульев. Через три или четыре часа, когда наконец подходит твоя очередь, ты уже не человек, а измятое, вспотевшее, жалкое существо, на которое господин Мюллер или Майер смотрит такими глазами, будто хочет сказать: «И что эти убогие твари забыли в нашей прекрасной стране?»
Он остановился и посмотрел отсутствующим взглядом на свои почти мертвые руки на подлокотниках.
— Да, есть один день в году, но только один день, когда тебе ясно дают понять, что тебе здесь не место. Бывает так, что приходится идти туда и во второй раз, когда на месте не оказалось Майера, а Мюллер еще и поиздевается над тобой. Или те дни, когда надо переезжать с квартиры на квартиру, или открыть новое дело, или выехать за границу. Но во все остальные дни я принадлежу к тем людям, к которым обращаются на улице и спрашивают, как попасть на станцию метро такую-то или где тут ближайшая почта. И таким я хочу остаться навсегда. — Он поднял голову. — В такие дни я научился ругать немецкую погоду, не оскорбляя никого и не обижаясь сам, когда мне говорят, почему я не еду в солнечную Бразилию, если мне так не нравится немецкий климат? Но если бы они знали, сколько мне за двадцать лет пришлось унижаться, обивать пороги, простаивать у столов каких-то буквоедов, то вряд ли кто-то предлагал бы мне уехать на родину.
Я смотрел на серое небритое лицо Ромарио и тихо качал головой. Любой другой на его месте вызвал бы мое сочувствие. Не потому, что немецкие законы создают людям определенные неудобства, — нет таких законов и отношений, которые бы не создавали неудобств, и на своем опыте я убедился, что от проявления сочувствия в таких случаях могут опуститься руки. Но если кто-то выработал в себе внутренние принципы, не допуская и мысли их нарушить, а это всем до фонаря, тогда я по-настоящему сочувствую этому человеку.
Сочувствие, которое я испытывал к Ромарио до этой ночи, теперь куда-то испарилось.
Я зажег еще одну сигарету и снова налил.
— Не знаю, кто тебя и о чем спрашивал. Знаешь, большинству абсолютно безразлично, приходится тебе унижаться или нет. А насчет паспорта скажу, что я могу сделать его за неделю.
— Что? — вырвалось у него, и он снова ожил. Лицо прояснилось, глаза смотрели на меня пристально и недоверчиво, и удивительно резким голосом, не терпящим шуток, он спросил:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я знаю одного человека, который может это сделать. Абсолютно законно. Завтра я ему позвоню.