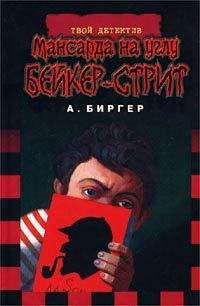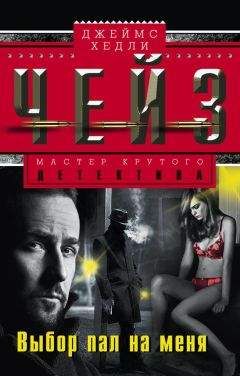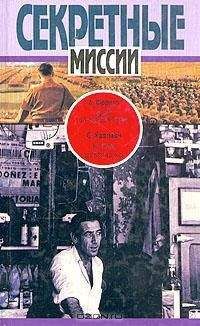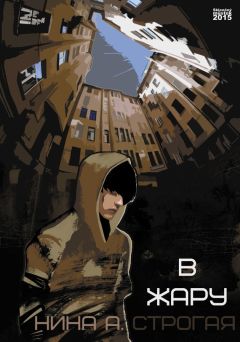Крис Хендерсон - Зубочистка для людоеда

Обзор книги Крис Хендерсон - Зубочистка для людоеда
Крис Хендерсон
Зубочистка для людоеда
...Проволока въелась в кисти и лодыжки так глубоко, что, казалось, уже не жгла, а холодила. Девушка перестала плакать. Он не любит, когда плачут. Она замерла, борясь с неудержимо подступающими к горлу рыданиями, — обуявший ее ужас требовал выхода. Он не любит, когда шевелятся или издают какие-либо звуки. Он ничего не любит. Кроме покорности и страха.
Она обшаривала взглядом окружавшую ее тьму, ища хоть что-нибудь, что могло бы дать надежду на избавление. Но видела лишь страшные инструменты, которым он жег, кромсал, терзал, щипал, колол ее тело, да клочья своего разорванного платья — лоскутья с обугленными краями. И еще — яркий желтый свет у него на кухне. Он готовил себе ужин.
Как и все, она читала про это в газетах, видела это на экране телевизора. Она знала, что се ждет. Но, может быть, может быть, ей удастся умолить е г о, умилостивить, стать такой покорной, такой послушной, сделать все, что он прикажет, чтобы он убил ее быстро и даровал ей наконец покой. И дверном проеме возник его силуэт, и она почувствовала, что ноги ее и пол под нею стали влажными. Она увидела блеск стали. Она все-таки огорчила его слезами...
* * *День начинался не лучше и не хуже тысяч тех дней, когда я просыпался в Нью-Йорке. Разве что ночь я провел у себя в конторе, скорчившись самым противоестественным образом на своем узком и коротком диванчике, и спал не раздеваясь и даже не расстегнув ремень. От этого болел живот, а все тело зудело от пота — несколько раз я взмокал, просыхал и снова покрывался крупными каплями пота, просолившими мою рубаху насквозь. Я принял — не без труда — вертикальное положение и побрел в свою, с позволения сказать, приемную за кофе. В кофейнике со вчерашнего дня еще что-то плескалось, я повернул ручку плиты, поставил кофейник, а сам рухнул на стул, гадая, как подействует на меня струящийся из окна утренний зной — разбудит или усыпит?
События развернулись по второму варианту. Глаза закрылись, голова откинулась на спинку. Очень может быть, что, когда в дверь постучали, я уже похрапывал. Открыл левый глаз, обвел им комнату, а когда наконец понял: ко мне посетитель, — крикнул «минутку!» и двинулся к двери, очень неохотно переставляя затекшие ноги. Впрочем, спина и плечи ныли не меньше. Итак, я брел через офис к двери, время от времени безуспешно пытаясь стряхнуть с себя цепкую, как репей, сонливость.
Наконец, оказавшись у двери, я отодвинул засов и впустил приземистого, смуглого, лысого человека, скорей всего итальянца — южанин, скверный характер, «честь рода», темные делишки, которыми занимался не очень дальний предок, но которые позволяют внуку не мараться и быть вполне респектабельным. Он остановился на пороге, и в открытую дверь, подобно вонючему ливню, ворвалась нью-йоркская уличная жара.
— Хотите убить кого-нибудь? — с места в карьер спросил гость.
— Массу народу.
— Хорошо, — сказал он, проходя мимо меня. — Есть разговор.
— Что ж, — ответил я вяло, — разговор так разговор.
Пропуская друг друга вперед, мы прошествовали в кабинет и заняли исходные позиции по обе стороны стола. Тут закипел кофе. Я спросил посетителя — и, надеюсь! — будущего клиента, не желает ли он чашечку. Я бы на его месте, только глянув на густой коричневый налет на стеклянных стенках и уловив мало с чем сравнимый аромат, хорошенько бы подумал, прежде чем соглашаться. Гость, однако, поблагодарил, взял чашку и отхлебнул. Тогда и я, решив не пасовать перед ним — он ведь и годами немолод, и лыс, а вот пьет же, и ничего, — сделал глоток. Затем перешли к делу.
— Как я понимаю, вам нужен детектив?
— Именно. Вы — мистер Хейджи?
— Он самый. Я беру двести в день плюс необходимые расходы по делу. Я не люблю, когда в меня стреляют и когда мне врут. Пока я не допил кофе, постарайтесь не делать ни того, ни другого.
— Вы что — шутите?! Шутите со мной? Я не шутить сюда пришел! — Кажется, я дал маху. Речь, очевидно, пойдет не об измене жены и не об угнанном фургоне. — Мне нужен мужчина, а не придурок с шуточками! — Лицо его от прилива крови стало совсем темным, но мне его ярость помогла проснуться окончательно. — Как видно, я попал не по адресу.
— По адресу, по адресу, — сказал я, — просто адресат другой. Вы постучали в дверь к телесыщику, а я открыл вам, ожидая очередную чепуху. Ошиблись мы с вами оба. Итак, изложите дело, а я скажу, смогу ли помочь.
Он крепко и — я бы сказал — мучительно задумался. Что-то точило его изнутри, медленно и неуклонно, как точит прилив кромку берега. Повнимательней взглянув ему в глаза, я подумал, что, кажется, впустил к себе сумасшедшего, в любую минуту готового разрыдаться, наброситься на меня с кулаками или вытворить еще что-нибудь похуже. Желая отсрочить приближение этой минуты, я спросил:
— А в полиции-то вы были?
Он кивнул. Упершись локтем в колено, он шарил пальцами по лицу, водил ими вверх-вниз. Он закатил глаза, потом наткнулся на мой взгляд и с видимым трудом спросил:
— Вы, наверно, читали... в газетах... Или по радио слышали?.. Про этого человека... Его кличка Шеф. — Он мог бы не продолжать: я уже понял, о чем пойдет речь, и даже кофейная горечь во рту сменилась каким-то иным, менее определенным, но еще более мерзким привкусом. — Слышали. Я тоже... Знаете, когда? В три часа ночи. В три часа ночи мы с женой узнали об этом чудовище. Сначала услышали, а потом полиция отвезла нас... Нам показали нашу дочь...
Он смолк, хватая ртом воздух. Плечи затряслись от распиравшей его изнутри ярости. Закрыл глаза и стиснул кулак так, что, не будь ногти так коротко острижены, они пропороли бы кожу до крови.
Уже не только лицо, но и шея за воротом рубашки потемнела от прилива крови, как грозовая туча, которой никак не пролиться облегчающим ливнем. Крепко зажмурившись, сжав кулаки, еле-еле размыкая сведенные судорогой челюсти, он отрывисто произносил:
— Найдите его... Я хочу, чтобы он сдох. Чтобы сдыхал долго. Как можно дольше. Моя Антонетта... она — как потерянная... Ей не оправиться до конца дней... Потому что этот трусливый ублюдок, этот monstro[1]...
Я сидел тихо и не пытался успокоить маленького человечка в черном костюме. И не останавливал его — даже не пытался, хотя это бы мне вряд ли удалось. Мне приходилось слышать о Шефе. Думаю, на всем Восточном побережье не нашлось бы такого, кто не слышал о нем.
Это прозвище дала ему одна бойкая бульварная газетенка, смекнувшая, как сделать этот ужас ежедневной приманкой для читателей и статьей дохода для себя. О такой сенсации нью-йоркские щелкоперы и мечтать не могли.
За полтора месяца Шефу удалось вогнать город в столбняк — по крайней мере, ночами. Раз в неделю он убивал женщину. Находил, увозил куда-то, насиловал, убивал. Насиловал, страшно мучил и убивал. У газетчиков, радио-и телерепортеров настала страдная пора. Печатали и пускали в эфир каждую версию, каждый слух, каждую подробность.
Они не давали вздохнуть ни полиции, ни родственникам и близким погибших. Они приставали к прохожим на улице: «Как, по-вашему, где произойдет следующее убийство?.. Зачем, по-вашему, он это делает?.. Какую цель преследует?..» Одна телекомпания взяла интервью у известной прорицательницы мадам Тарны, которая предсказала тип будущей жертвы, место и время планируемого преступления. Все совпало. А потом он прислал на студию письмо, где благодарил мадам — к вящей радости соперничающих телекомпаний — за плодотворное сотрудничество. Больше к помощи ясновидящих не обращались.
Но тиражи и размер аудитории не снижались. Прежде чем завести речь о России, о предстоящих выборах, о ценах и налогах, о заурядных убийствах и ограблениях, публике рассказывали о Шефе. А публика желала быть в курсе дела — не пропускала выпуски новостей, не выключала приемники и ждала, когда ведущие со столь характерным для них натужным остроумием передадут очередное сообщение о Шефе, — ждала, затаив дыхание от страха. Шеф задевал за живое. Ибо раз в неделю он похищал женщину. Ибо он пытал свою жертву, насиловал ее, резал ее на куски и поедал.
Да-да, он отсекал самые лакомые куски, брезгуя пальцами, ушами, грудями, бедрами, почками. Потом бесформенную груду мяса, бывшего когда-то нежным женским телом, находили на каком-нибудь пустыре, а сам он — судя по письмам, которые рассылал по студиям и редакциям, — набивал свой морозильник сердцами, печенью, мозгами. Все аккуратно уложено в мешочки, каждый мешочек надписан — имя, дата, содержимое.
Человечка в черном костюме, сидевшего напротив меня, звали Джонни Фальконе. Сегодня в девять утра он похоронил дочь, отвез домой жену, поручил сыновьям отбиваться от репортеров, продолжавших выспрашивать все новые и новые подробности, а сам приехал ко мне. Теперь он сидел напротив, впившись в меня своими черными глазами, и я физически ощущал жгучие волны исходящей от него ненависти. Он сидел напротив и требовал, чтобы я отомстил, и даже не подозревал, что я ничем не смогу ему помочь.