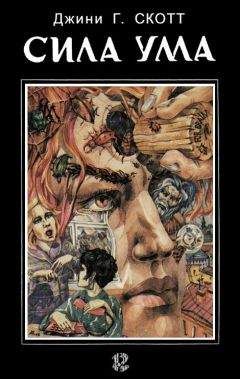Станислав Родионов - Долгое дело
Но главное, что мы должны оставлять после себя, — это не вещи, дома, автомобили и сады… Мы должны оставлять после себя любовь к себе; мы должны оставлять как можно больше людей, любивших нас…
Половину дня Рябинин истратил на обыск калязинской квартиры: простукивал полы, стены и мебель, изучал метры ковров и полированных поверхностей, листал нетронутые книги и описывал имущество. Как он и предполагал, денег, драгоценностей и вещественных доказательств отыскать не удалось. Они были где-то в другом месте. Была только «исповедь» — кирпичной толщины блокнот, видимо изготовленный по индивидуальному заказу, — над которой Рябинин просидел всю ночь.
Но опознания и очные ставки вопреки его ожиданиям прошли успешно. Калязина, сломленная превращением верной ассистентки в инспектора уголовного розыска, сидела безучастно и оборонялась от свидетелей лишь на одном инстинкте самосохранения. Её узнали все, даже старушка, владелица письма Поэта.
Теперь он её допрашивал.
Рябинин не раз представлял себе этот победный допрос… Он спокоен, чуть ироничен, великодушен. Она потрясена, в слезах, кается и переоценивает всю свою жизнь.
Теперь он её допрашивал.
Рябинин не спокоен, не ироничен, не великодушен — он борется со своим утробным раздражением, прущим, как крапива весной. Калязина сидит с пепельным лицом, без слов, с нездешним взглядом.
— Аделаида Сергеевна, на очных ставках вы молчали… Не надумали говорить?
— О чём?
— Откровенно говоря, меня интересует только один вопрос: кто соучастник?
Казалось, на усмешку она собрала все силы.
— А так всё знаете?
— Всё, — уверенно ответил Рябинин, не сомневаясь, что и деньги, и бриллиант, и письмо Поэта лежат у соучастника.
— Тогда нечего и спрашивать…
Калязину ещё не арестовали — пока только задержали. Она провела в камере предварительного заключения лишь одни сутки. Она была в своём костюме голубовато-стальной шерсти и тончайшей батистовой кофточке. От неё пахло заморскими духами: зноем, розами и пряностями. И всё-таки она выглядела узницей — перед Рябининым сидела заключённая, и он не мог понять, в чём и как это проступает. В отрешённости от жизни?
— Доказательства теперь есть, Аделаида Сергеевна…
Она не ответила.
— Ваши парапсихологические фокусы будут разоблачены в ближайшем номере газеты профессором Пинским.
— Профессор Пинский не считал их фокусами.
— Профессор Пинский молчал по просьбе Петельникова до вашего задержания.
— И подсунул мне агентшу, — лениво усмехнулась она.
— Ну а свою идеологию вы любезно изложили в «исповеди».
— Прочли? — Впервые по её лицу прошла жизнь.
— Прочёл.
Больше она не спрашивала, но он видел, что, может быть, теперь это её единственный интерес.
— Эту «исповедь», Аделаида Сергеевна, я бы пустил в печать под названием «Откровение эгоиста».
— И всё, что вы поняли?
— А там ещё что-то есть?
— Вы ничего не поняли.
— Понял главное: преступницей вас сделал ваш эгоизм.
— Остроумно.
— Я понял, что эгоизм может быть причиной преступления.
— А вы допрашивали Сидоркину?
Она села прямее, нацеливая, как бывало, на него свой торпедный нос. Рябинин обрадовался, потому что говорить с отрешённым от жизни человеком было неудобно.
— Знаю, вы добавили ей денег на покупку тахты. Но после её слов, что если вы не сможете, то никто не сможет. А это опять-таки эгоизм.
— Я не эгоистка, а индивидуалистка.
— Вы эксплуатировали доверчивость людей, вы лишали их веры в человека. Это индивидуализм?
К чему он заспорил? Уж не думает ли её перевоспитать?.. Допрос начат с единственной целью — выведать соучастника. Рябинин надеялся, что, размягчённая неожиданным предательством ассистентки, задержанием, обыском и очными ставками, она признается легко. Молчать ей вроде бы смысла не было. Нет, был: без соучастника суд мог вернуть дело на доследование, а тянуть время в своих интересах Калязина умела.
Убеждая раскаяться, Рябинин обычно искал чувствительное место, которое у каждого своё. Обращался к совести, если она была ещё не потеряна, а вся совесть никогда не терялась. Задевал семейные узы, может быть самые отзывчивые. Касался любви женщины и мужчины. Трогал чувства к родителям, к своему прошлому, к работе… А тут к чему взывать?
— А ведь вы давали врачебную клятву…
— Врачебный долг я исполняла.
— А жалость к людям?
— О жалости к людям клятва не упоминает.
Рябинин её прочёл — клятва врачей и верно не упоминала ни о жалости, ни о сердоболии, ни о сострадании.
Что-то ему сегодня мешало. Рябинин не раз ловил себя на том, что не может смотреть ей в глаза, словно не он допрашивал, а допрашивали его. Что-то… Это же злость, которая лезет, как весенняя крапива.
— Что вам надо, то вы и видите, — вроде бы стала возвращаться Калязина к своему облику.
— Я что-нибудь не увидел?
— Вы прочли раскаяние удручённой души и не поняли её.
— А там всё написано про эту удручённую душу?
— Это не дневниковая исповедь, дорогой товарищ.
— Нет, не всё, дорогая товарка, — выпалил Рябинин, распахивая толстую папку. — Полистаем-ка вашу жизнь…
Калязина смотрела на бумаги и ждала — она знала свою жизнь.
— В школе давали подружкам читать детективы, и только те увлекались, как вы сообщали имя преступника.
— Господи, в детство залез…
— Ваш классный руководитель не терпел, одну песню. Вы заказали её в концерте по заявкам как якобы любимую.
— Когда это было-то…
— Перед поступлением в институт, на юге, вы раздевались на пляже догола, и, пока мужчины на вас смотрели, ваш дружок чистил их карманы. Об этом даже газета писала. Кстати, тогда вы избежали суда как несовершеннолетняя.
— Миновал срок давности.
— Студенткой на вскрытии вы украли с трупа золотую коронку, за что вас чуть не исключили.
— По молодости.
— Вы отказались сдавать экзамен, потому что умер ваш отец. Когда студенты пришли с соболезнованием, дверь им открыл отец.
— Студенческие шалости.
— Мать вы отдали в дом престарелых, хотя имели и деньги, и все условия…
— А это по закону, — перебила она.
— Вы много лет жили одной семьёй с гражданином Сивограковым, начальником снабжения, а когда его разбил паралич, то ушли буквально на второй день.
— Это моё дело.
— В прошлом месяце в магазине самообслуживания вы тихонько опустили в сумку соседке по лестничной площадке бутылку коньяка, за что та была задержана как воровка, — с возрастающим злорадством сообщал Рябинин.
— Может быть, хватит?! — не выдержала Калязина.
— Хватит, — согласился он, скорее остановленный своим злорадством, чем её окриком.
Злорадство — как прущая крапива. Он хотел задержаться на нём, чтобы решить: откуда оно, нужно ли и зачем? Но злорадство, придавая голосу каркающий тембр, уже бросило в лицо Калязиной:
— В этих бумагах описана такая грязная жизнь, что их противно брать в руки.
Он увидел страшное лицо — волевое, надменное, привыкшее повелевать, которое сейчас хотело унизиться. С него и властность не ушла, и лесть уже появилась.
— Сергей Георгиевич, не подшивайте их к делу…
— Уж не просите ли вы у меня помощи? — спросил Рябинин злорадно, всё злорадно. — Пусть вам помогает карр-камень.
Она вновь опала, словно этим карр-камнем он проткнул её и выпустил все силы.
— Неужели в вашей жизни не было зигзагов? — вяло спросила Калязина, потеряв к нему интерес.
— Зигзаги были, но не аморальные.
— Мне хоть есть что вспомнить, а вы чадите…
— Неужели?
— Я вам расскажу притчу…
У неё ещё были силы — на притчу.
— Умер один гражданин и попал на тот свет. Стали думать, куда его — в рай или в ад. Решили проверить… Пустили в одну комнату с драгоценностями не берёт. Пустили в комнату с яствами и винами — не пьёт. Пустили в комнату с красавицами — не трогает. Доложили богу. Всевышний и говорит: «Отправьте его в ад, — в раю дураки не нужны».
— Аделаида Сергеевна, чего же вы не в рай попадаете, а в заключение?
— Потому что вы не бог.
— С богами вы ещё встретитесь. Я имею в виду судей.
Она закрыла глаза, показывая, что говорить больше не о чем.
Разве это допрос? Да он и не может её допрашивать от какой-то дрожи внутри, от крапивного злорадства. Это не допрос — это месть.
— Ну, так назовёте соучастника?
— Меня арестуют? — открыла она глаза.
— Да, после допроса прокурором, — жёстко ответил Рябинин, представляя, как её арестовывают, как она видит постановление, смотрит на печать, расписывается, и её увозят в следственный изолятор, в камеры.
Рябинин снял очки и обдул чистые стёкла: он ли это? Тот ли, который после любого ареста терял аппетит? Тот ли, которого товарищи звали «гуманненьким»? И где ж найденный им смысл жизни, где ж любовь к себе подобным? Но умершая Пленникова, но его страшная ночь в городской прокуратуре…