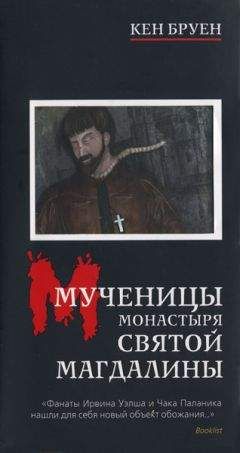Священник (ЛП) - Бруен Кен
— Я и не знал, что здесь твоя территория, — сказал я.
Очевидно, мы собирались делать вид, будто встречи на мосту не было. Меня это устраивало — в чем-чем, а в отрицании я силен.
— Я видел, как ты пришел.
— И что, проследил? Слежка священника — не уверен, что это хорошо, не говоря уже о том, что малость необычно.
Что бы там с ним не творилось, он откровенно нервничал.
— Мне нужна твоя помощь, — сказал он.
В точности как в прошлый раз.
Эти слова его чуть не задушили, пришлось цедить их меж зубов. Я не собирался упрощать процесс, промолчал. Оставил, как говорят психологи, черную дыру — пусть сам заполняет. Однажды полицейский в штатском мне сказал, что молчание — лучший инструмент допроса. Люди его терпеть не могут, им обязательно надо заполнить пустоту.
И он заполнил.
Нашарил сигареты, закурил, спросил:
— Можно тебя угостить?
И увидел мое лицо. Он — тот, кто годами порицал меня за выпивку, — попытался исправиться, сбился, добавил:
— Я имею в виду, чаем… или кофе. Можно сходить в «Рэдиссон», хороший отель.
А еще у них запрет на курение. Сфера обслуживания как раз вела тяжелую битву с правительством. С 1 января 2004 года курение запрещалось в пабах, ресторанах, общественных местах. Сфера обслуживания заявляла, что запрет в первых двух прикончит туризм, не говоря уже о местной индустрии. Курильщики не могли себе представить, чтобы пойти в паб без никотина, и зареклись выходить из дома.
Когда мы садились в девственно-чистом салоне, Малачи так и не выпустил сигарету из рук. Подошел официант, бросил на нее взгляд, не стал качать права. Осталась еще какая-то власть у священников. Мы попросили кофейник. Малачи добавил:
— Молодой человек, еще положите печенье на тарелку, чтобы голой не казалась.
Молодому человеку было по крайней мере тридцать пять.
Я никогда не присматривался к Малачи, никогда не задумывался о его возрасте или внешности. Поразительно осознавать, что из-за презрения игнорировал человека во всех отношениях. Теперь я предположил, что ему под шестьдесят лет, а судя по бледности, выражению глаз — лет тяжелых, без исключения. Пышные волосы, тронутые сединой, давно не мытые. Руки землекопа, как у персонажа из книги Патрика Макгилла [22]. Голуэйские старожилы назвали бы его беконом с капустой, да еще с вагоном картошки, сочащейся маслом. А он бы прибавил к этому тарелку тушеных яблок, галлон густого заварного крема. Такие, как он, прокладывали дороги Англии.
Кофе принесли с тарелкой печенья «Рич Ти».
— Надеюсь, свежие, — рявкнул Малачи.
Официант кивнул, слишком ошалелый, чтобы отвечать. Малачи взял счет, изучил, произнес:
— Хосподи.
Я было полез за кошельком, но он не дал, достал смятую бумажку, вручил. Официант еще постоял, на что-то надеясь, но чаевых не дождался. Я разлил нам кофе — аромат был вкусный и крепкий.
— Молока? — спросил я.
Малачи закидывал печенье в рот, не гася сигарету. Так и хотелось спросить: «Не завтракал, что ли?»
Но у нас хватало трений. Он спросил:
— Слышал об отце Джойсе?
Обезглавленный священник. Я кивнул, он сказал:
— Жуткое дело.
Это еще мягко сказано. Он уставился в пустоту, потом вдруг зашел с другой стороны:
— Каково было в… эм-м… больнице?
Я знал, что у него на языке так и вертится «психушка». Ответил:
— Тихо. Там на удивление тихо.
Он рискнул взглянуть на меня, потом — взять еще печенье, сказал:
— Всегда их боялся, думал, там лютый крик.
Я подумал, ответил:
— Да не, крик был, но тихий. Чудеса медицины. А мне там дали то, чего я хотел больше всего, — полную отключку.
И тут я осознал, что, как теперь выражаются, «делюсь» — причем с тем, кого презираю. Не то что я бы стал делиться с кем-то другим. Прошлые годы уничтожили почти всех, кого я знал, друзей и родных. Чтобы об этом забыть, одной отключки мало. К своему удивлению, я спросил:
— Ну а каково быть священником?
Не знаю, политкорректно ли это, можно ли задавать такие вопросы, но мы теперь оба зашли на незнакомые территории. Он доел печенье, утерся рукавом, сказал:
— Это работа. И выбирал ее не я.
Тут уж остается спрашивать дальше, вытаскивать на свет все.
— А разве не наоборот должно быть? Это тебя должны… как ты сказал, выбрать?
Пошла вторая сигарета. Меня курить не тянуло с самой нашей встречи — Малачи действовал лучше пластыря. Его смех был полон злобы и гнева — не самая простая смесь.
— Моя матушка, упокой Господь ее душу, пылко мечтала, чтобы я стал священником. Думала, это благословение для семьи.
Выражение «почернел от гнева» всегда казалось, ну, просто выражением. А тут, клянусь, его лицо стало что твоя грифельная доска. Я попытался сменить тему, спросил:
— Чем я могу помочь?
Он вырвался из той бездны, которую видел перед глазами, коснулся опустевшей тарелки, как слепой, — в поисках крошек или надежды, уж не знаю. Я узнал этот огромный голод, жажду, что подчеркивает пустоту внутри. Свою я заполнял выпивкой — не помогло. Может, его метод — никотин. Он сказал:
— Архиепархия очень встревожена последствиями дела отца Джойса. Ходили слухи о… домогательствах.
Я вздохнул. Страна еще оправлялась после пяти лет ужаса из-за количества священников, обвиненных, арестованных и осужденных за потрясающе жестокое обращение с детьми. Дело за делом уровень детских страданий оказывался все невообразимей. Самый известный из них — отец Брендан Смит, осужденный и скончавшийся в тюрьме, — во время чтения приговора повернулся к телекамере с лицом без всяких признаков раскаяния. Его похоронили ночью, что само по себе уже вердикт. Другой священник, тоже осужденный, показал камерам, когда его упаковывали в полицейскую машину, два пальца. Не нужен эксперт, чтобы представить уровень народного возмущения.
Я все это вспомнил, спросил:
— И что, по-твоему, я-то могу?
Теперь он занервничал, заерзал на стуле.
— Ты уже добивался успеха, раскрывал дела. Находил… разгадки.
Я только что нашел работу, а то и настоящее жилье, непридуманное наследство. Чего мне еще не хватало? Я спросил:
— А что полиция?
Он покачал головой.
— Это должно оставаться в секрете. Не хватало еще громкого расследования.
— Но оно-то наверняка уже ведется.
Он обратился ко мне с мольбой:
— Джек, отца Джойса в прошлом … обвиняли… в растлении. Мы не хотим выносить этот сор из избы.
Надо же, как сказал. Церковь и раньше покрывала виновных, винила обвиняющих и переводила преступников в другой приход. Поручала потенциальному чудовищу новую и ничего не ведающую паству.
— У тебя есть имена обвинявших? — спросил я.
Он достал из кармана листок, положил на стол:
— Я знал, что ты поможешь, Джек.
— С чего ты взял, что помогу, — огрызнулся я.
Мне показалось, я заметил редкую улыбку, но она пропала раньше, чем я успел отреагировать. Я взял листок — три имени с адресами, — спросил:
— Допустим — только допустим, — я найду убийцу, даже докажу его вину. Что потом?
Малачи уже стоял.
— Мы передадим его властям.
Ничто в его глазах не убедило, что в этом есть хоть доля истины.
Мы вышли, солнце уже забралось высоко. Я обернулся к нему, сказал:
— Не умеешь ты врать.
— Что?
Его выражение уже подтверждало мою догадку:
— Не при чем тут архиепархия, да и с чего бы. Это все ты.
Он вперился взглядом в свои туфли, потом:
— Я боюсь.
— Чего?
Мне показалось, он вот-вот начнет задыхаться.
— Меня обвиняли… Два года назад… В той же гадости.
На лбу выступил пот, накопился, медленно побежал тонкими ручейками по лицу, словно бусины четок, только в два раза значительней. Его трясло.
— Быть священником — как быть распятым без креста, ты сам понимаешь: терзает столько желаний…
У слова «желания» чувствовались такие тяжелые сексуальные коннотации, что я отшагнул, пытаясь вместить в голову, что он… занимался этим с мальчиками.