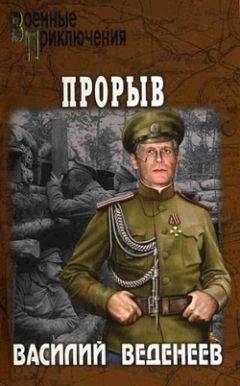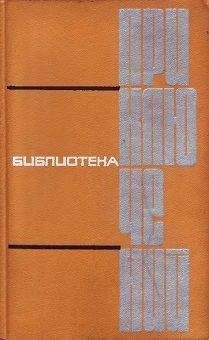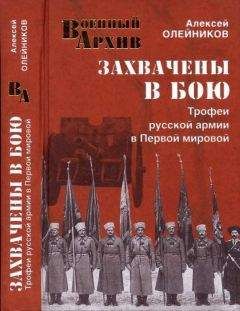Федор Московцев - M&D
Потом он уехал, и позвонил уже из машины, – предупредить, что до конца рабочего дня не появится. Всё это время «сурки» находились в бухгалтерии.
Лактионов позвонил около шести часов и сообщил, что намечается гулянка. Нелли уже на месте, а сам он идёт в магазин за напитками. Пожелав удачи, Андрей отключил телефон.
Мариам спросила за ужином:
– Ты ничего мне не хочешь сказать?
– Я разве тебе не говорил – Олеся давно уволена.
– Неужели? Ты мне ничего не говорил. Эту новость я бы точно запомнила. Так ты прогнал её, тебе можно верить?
– Как всегда. Ты же мне верила до сих пор, и, видишь, у нас всё хорошо.
Глава 67
Наутро «сурки» отчитались в проделанной работе. Много шумели, бегали по коридору, дым стоял коромыслом, музыка орала на полную мощность. Сторож трижды приходил, чтобы призвать к порядку, и выпроводил их в начале двенадцатого. С самого начала у Олеси не сложился контакт с Лактионовым, и он переключился на Нелли. Из офиса они поехали к ней домой, и она оставила его на ночь. Что касается основного задания, в описании его выполнения у дружных «сурков» возникли разногласия. Еремеев по телефону сообщил, что трахнул Олесю прямо на столе. Когда встретились, Лактионов, отведя взгляд в сторону, показал, что видел, как Олеся присела к Еремееву на колени, что было дальше, не знает, так как вышел из кабинета. Заявления Еремеева при личной встрече уже не были столь категоричны – теперь он скромно признался, что Олеся «посидела на его коленях, потом расстегнула ему ширинку и припала к источнику». Из офиса разъехались по домам – каждый в свою сторону. Эта трогательная история была рассказана так неубедительно, что Андрею стало ясно: это полный провал. Сурки зря потратили его время и деньги, и вдобавок подмочили репутацию перед хозяевами офисного центра. Но отступать было некуда – он уже отчитался перед женой, иными словами, извлёк пользу из события, которое не состоялось. Значит, достоверность этого события уже не имеет значения.
С такими мыслями он пришёл на работу в понедельник. Вместо приветствия сказал Олесе:
– Мы расстаёмся. Ты слишком глупа, и твои глупые поступки… В общем, так больше не может продолжаться.
Она спокойно сняла с себя пальто, повесила его на вешалку.
– Я уберу мусор.
Андрей объяснил, что дело не только в мусоре. Конечно, это негигиенично и неосмотрительно – оставлять объедки, пустые бутылки, грязную посуду и окурки на целых два дня. Волокуша жуткая, да и палево, зачем?! Дело не в этом. Дело в том, что трахаться в офисе с деловыми партнёрами директора тоже как-то неприлично – в их, Андрея и Олеси, непростой ситуации.
С видом оскорблённой добродетели она заявила, что это наглая ложь. «Сурки» пытались что-то изобразить, она отшила их обоих, и за целый вечер от них не было даже никаких намёков, никакой любовной сигнализации. Она не какая-нибудь лошица, и умеет отказывать убедительно, так, чтоб не было вопросов. А если бы хотела с кем-то из них переспать, то сделала бы это, не афишируя.
Он видел, что она говорит правду, а после разговора с «сурками» её слова звучали особенно убедительно. Но решение уже было принято, и ничего не оставалось другого, кроме как идти до конца:
– Ты знаешь моё к тебе отношение, мою страсть. Объясняю на понятном языке: мне больно видеть, как ты заигрываешь то с одним, то с другим. Этот кобель, Данила, потом эти выблядки. Как ты думаешь, мне приятно?! Давай расстанемся на какое-то время, подумаем, потом встретимся и поговорим.
И он, притворившись оскорбленным её легкомысленным поведением до последней меры оскорбления, в красках пересказал случившееся в МНТК во время конференции, и вновь коснулся вчерашнего. Она же напомнила всю историю их взаимоотношений, сказала, что вела себя как все девушки, ничего тут нет особенного, если, не имея прочного чувства, общаешься с разными молодыми людьми, но узнавая Андрея всё больше и больше, она поняла, что это не просто связь. Она стала другой благодаря их отношениям. Она полюбила.
– Всё из-за тех слов, что я тебе сказала вчера в коридоре? Ты из-за этого решил расстаться?
Она всё ещё думала, что происходящий разговор – всего лишь разговор, что ей делают внушение, строгое предупреждение, и даже возмутилась – мол, и так понятны правила игры, но если уделять ей так мало внимания, толкая при этом в объятия других мужчин…
Андрей указал ей на это её непонимание необратимости процесса. И попросил расписаться в некоторых бумагах, и показать, где что у неё находится.
До неё никак не могло дойти, что она теряет всё – и мужчину, и интересную работу.
Тогда он подошёл к вешалке, снял пальто, и, взяв двумя руками за плечи, кивнул – мол, иди, я тебя одену. Олеся, посмотрев на Андрея с ненавистью, подошла, выхватила пальто из его рук, и выбежала из кабинета.
Глава 68
Глеб Гордеев не испытывал угрызений совести по поводу того, что следил за Андреем Разгоном, своим бывшим компаньоном, и, временами появляясь в самых неожиданых местах, требовал у него деньги. Нет, угрызения совести были бы отрадой в сравнении с тем, что испытывал он. Он пребывал в мрачной меланхолии из-за того, что дьявол толкает его к тому, от чего нужно бежать что есть сил – от материальных благ, от денег.
Находясь в подавленном состоянии, Глеб удалялся в балку позади областной больницы, и, опустившись на землю, подолгу сидел один. Так он мог просиживать целый день, пропустив обед и ужин, пропустив ночь и снова день. Лишь изредка к нему приходила старушка-мать, которая, положив руку ему на голову, шептала:
– Когда ж ты, дурень, поумнеешь? Встань хотя бы на учет на биржу труда, бездельник.
Иногда он мрачно ссылался на то, что ещё не додумал необходимую думу. Пусть никто не тревожится. И он просил принести ему еду сюда, в балку, только немного: палку колбасы, мешок картошки, три килограмма свинины на шашлык, и пару бутылок водки 0,75.
И, вздыхая горестно, мать тихо удалялась, зная, что назойливость не способствует облегчению душевной грусти.
Но большей частью он покорно поднимался, и мать, взяв его за руку, вела домой, шепча заклятия от злого глаза и от сектантов, охотившимися за Глебом, чтобы вымутить последнее, что у него осталось – старенькую ВАЗ-099. Вздыхая, она старалась отогнать от его чела мрачное облако.
– Возьми газету, посмотри объявления по работе, лоботряс. О чем только думаешь, увалень ты этакий?
– Думаю я, моя мама, одну неотступную думу: есть ли на земле средство против вековой печали? Есть ли оружие, которым можно было б сразиться с беспощадной похитительницей жизней? Почему безнаказанно, назойливо врывается она в семью, хватает самое дорогое и исчезает бесследно? А остающиеся беспомощно проливают слёзы, проклиная судьбу. А может, судьба тут ни при чём?
Мягкий голос Глеба проникал в самую душу. Он говорил о том, что смерть сильнее жизни, потому что от жизни можно избавиться, а от смерти – нет, вспоминал былое, предрекал будущее. Из его неупорядоченного бреда мать поняла, что Андрей Разгон, бывший компаньон, должен Глебу пять тысяч долларов, и стала названивать дебитору и требовать долг – расходы на бухло и шашлыки становились непомерными. Разгон неизменно отвечал с фальшивой вежливостью, что будет разговаривать только с Глебом, но когда она заговаривала с сыном о необходимости свести взаиморасчеты, тот никак не мог понять, о чём идёт речь, потому что мысли его были погружены в море черной тоски. Его печаль дополняло то, что он стал настолько же смел в душе, насколько застенчив в обращении с людьми. Никогда не отличался гибкостью ума, а сейчас стал просто непреклонен. Он был убежден, что владеет истиной. Наедине с самим собой он был неистов и полон протеста. Каким же молодцом, каким разбитным малым он был наедине с собой!
Проблески неистовства становились всё реже. Дни скорби возвращались, всё чаще старушке-матери приходилось спускаться за сыном в балку. И опять он отказывался понимать её, требовавшую невозможного – приобщения к наемному труду.
Чтобы додумать в спокойной обстановке думу и разобраться в самом себе, Глеб предпринял автомобильную поездку. В гараже хранилась большая партия антибиотиков, взятая на «Фармбизнесе» под поручительство Андрея Разгона. Глеб загнал её по дешевке на одну из фармацевтических компаний, и, заправив бак, отправился в путь.
Глеб поехал по ростовской трассе и через пятнадцать часов очутился в Джубге. Далее он поехал налево вдоль моря, и, делая короткие (а также длинные) остановки, настраивался на открытие чакр. Море, которое он увидел впервые, и отрадное безмолвие лесов и гор сразу очаровали его. Смутный шум волн и листвы был созвучен смутному лепету его души. Он скакал козлом по лесу и валялся голый на камнях, полный жажды чего-то неизведанного, того, что угадывал везде и не находил нигде.
Целыми днями Глеб бродил один и часто плакал без всякой причины; порой ему казалось, что его сердце сейчас разорвется, так оно было переполнено. Словом, он ощущал великое смятение. Но какой покой на этом свете может сравниться с таким смятением? Никакой! Глеб брал в свидетели деревья, ветви которых хлестали его по лицу; брал в свидетели гору, с которой любовался закатом, – ничто не сравнится с терзающей его болью, ничто не сравнится с мужскими грёзами! Если желание делает прекрасней всё, к чему оно прикоснется, то желание неизведанного делает прекрасней вселенную.