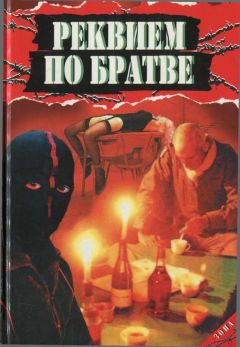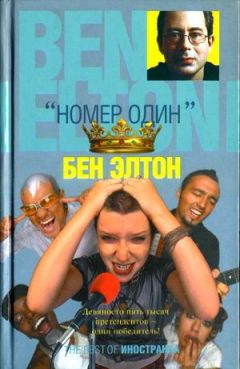Анатолий Афанасьев - Зона номер три
— Какие распоряжения, командир? — Буба-1 мялся у порога, осторожно озираясь.
— Где остальные Бубы?
— Ждут наготове.
— Ну-ка закрой дверь.
За три дня у Гурко с командой сложились добрые отношения. Горцы больше не дичились, не обижались на его шутки, видно, установив для себя, что, чем резвее русачок нарывается, тем слаще его будет кушать. При разговоре все четверо кровожадно скрежетали зубами. Гурко их успел полюбить. Они были как дети.
— Садись, — пригласил Гурко. Буба уселся, широко расставив литые, могучие колени.
— Хочу спросить, ты давно в Зоне околачиваешься?
Буба смугло порозовел, чувствуя подвох, ответил с достоинством:
— Тебе зачем, командир?
— На опасное дело идем, хотелось подружиться.
— Подружиться можно, почему нет.
— Кунак кунаку товарищ и брат, верно?
— Веселый ты, командир. К чему клонишь?
Гурко ни к чему не клонил. Его мучила мысль: вернулось в Россию монгольское иго или пока только на подходе? На этот вопрос наивный Буба, настороженный, как оголенный провод, вряд ли ответит. На этот вопрос пытался ответить покойный академик Гумилев, но так и не дознался.
— Ладно, пойдем на площадь. Еще разок все прикинем.
Но Буба его остановил.
— Не опасайся нас, командир, — сказал, понизив голос. Это были странные слова, ни с каким предыдущим разговором не связанные. Гурко решил позже над ними подумать.
В сущности, он был спокоен как никогда.
Глава 8
Субботнее утро началось для Кира Малахова нескладно. Ночью окочурилась девка Маланья. Еще с вечера, как обычно, крутилась по хозяйству, подала ему в постель стакан топленого, теплого молока с медом, а ночью… Когда полтора года назад вернулась мода на патриотизм и на все русское, Кир Малахов выписал ее себе из деревни Пеньково, и вскоре привязался к ней, как к родной. На огромной загородной вилле Маланья постепенно стала как бы домоправительницей. Безобидное, веснушчатое, переваливающееся, как утица, создание лет шестидесяти, неопределенной внешности и даже неопределенного пола, поначалу она производила впечатление смирного домашнего животного, но когда Малахов пригляделся, то различил в ней что-то особенное, напоминающее детские сны. Он никому не позволял ее обижать, хотя братва относилась к ней иронически. Наш-то, судачили некоторые, носится с деревенской каракатицей, как с ключом от сейфа, видно, совсем сбрендил.
Девка Маланья, когда забрал ее из деревни, никакой опоры там уже не имела. Близких родичей повыбила реформа, кого в город утянула, кого на погост, в покосившейся избенке она доживала век, то на паперти торчала, то на огороде — подрабатывала. На вилле Малахова будто заново расцвела. Бывают же чудеса на свете — вот одно из них. Матерый интеллектуал, бывший сподвижник рыжего Толяна, хладнокровный, расчетливый бандюга, возглавляющий элитарную группировку, и одичавшая простолюдинка, туземка с одной извилиной в башке — ну что, казалось, было у них общего, а вот сошлись не разлей вода. Имелась в их внезапной дружбе-приязни забавная и трогательная особенность: Маланья, от худой житухи давно надорвавшая и пуп и рассудок, иной раз принимала Кира Малахова то ли за меньшого братца, то ли за убиенного в Чечне сыночка, и он не протестовал, не возмущался, напротив, с простодушной улыбкой откликался на незнакомые имена… Да это что. Иногда Маланья обряжалась в лучший свой наряд — расписной сарафан и бежевая поддевка на меху, — брала Кира Малахова под руку, и они неспешно, солидно шествовали в соседнюю церкву, расположенную на живописном бугре над речкой Боря. Братва только млела, но на поганые выходки не решалась. Кир Малахов, куда бы ни склонялась его душа, по-прежнему высоко держал авторитет, был одинаково скор как на расправу, так и на дурь. С ним схлестнуться напрямую никому не хотелось.
Чудная была ее смерть. Вечером, когда подавала молоко, выглядела как обычно: увалистая, расторопная, с чутким прихватом. Но пахло от нее почему-то скипидаром. И заговорила необычно, с мольбой:
— Не надобно завтра путешествовать, Кира!
Малахов отложил томик Платона, в который любил заглянуть перед сном, взглянул удивленно:
— Откуда знаешь, куда еду?
— Не едешь, тянут тебя. На муку собрался, а к ней еще не готов. Чтобы муку принять, у тебя силенок мало. Не ехай, Кира!
— Не зли меня, Маланья, — возмутился Малахов. — Вечные твои дурацкие предчувствия. Видения! Ну нельзя же так Мы, в конце концов, цивилизованные люди. И потом, почему от тебя несет скипидаром?
— Не ехай, Кира! Худо будет!
— Хорошо, не поеду. А денежки, по-твоему, су-чарам отдать? Ты хоть знаешь, о какой сумме речь?
При слове «деньги» Маланья, как всегда, истово перекрестилась.
— Вот, вот, сынок. Всё деньги на уме. Похоронят они тебя, помяни мое слово.
Кир Малахов прогнал каркающую старуху, а после стало жалко. Конечно, безумная, но в некоторых вещах, как он не раз убеждался, она была удивительно прозорлива. Его самого настораживала непонятная уступчивость Большакова, неожиданное приглашение в Зону, где тот якобы сполна рассчитается. Это звучало двусмысленно. Сполна рассчитается — это как? Отвалит, что ли, пару чемоданов налички? Или влепит пулю в лоб? И то и другое маловероятно. Расплачиваться чемоданами, пригласив на уикэнд, для Мустафы несолидно, не его почерк. А пулю в лоб… Тоже не тот случай. Когда Кир Малахов сделал предъяву за невинно убиенного коммерсанта, он понимал, что замахивается не по чину, и не надеялся сорвать крупный куш. Это был скорее шаг моральной сатисфакции. Пусть Мустафа огрызнется, оскалится, зато запомнит, что он в долгу у Малахова и что Кир Малахов не из тех, кто боится заявить о своих правах кому бы то ни было. Он обязан был так поступить, иначе, как говорят китайцы, потерял бы лицо. Особенность российского крутого бизнеса как раз в том и состоит, что потерять лицо в нем можно только один раз. Уступишь, покажешь слабину — подняться не дадут, дураков нет. Кир Малахов надеялся на взаимопонимание со стороны Мустафы и вроде бы не ошибся. Донат Сергеевич отзвонился на предъяву лично. «Загляни ко мне, Кирушка, — пригласил после шутливых расспросов о здоровье и семье. — Осушим по чарке, обсудим нашу маленькую проблему». Кир Малахов ответил дерзко: «Донат Сергеевич, чего особенно обсуждать? Или вы платите, или нет». — «За что плачу, Кирушка?» — «По страховке. Гека у меня застрахован». Вот тогда, немного подумав, Мустафа и уверил, ничуть не изменившимся, любезным тоном: «Коли настаиваешь, Кир, расплачусь сполна. Для дружбы денег не жалко. Это нормальный вклад».
В разговоре многое подозрительно, и самое подозрительное то, что встречу Мустафа назначил в Зоне. Если зверь решил его мочить, лучшего места не придумаешь. Вырваться из Зоны у постороннего нет ни единого шанса. Она устроена по принципу капкана со многими челюстями. Но все же Кир Малахов не верил в злой умысел. В первую очередь потому, что Мустафе это было невыгодно. Слишком мал выигрыш — какие-то полмиллиона, а потери, особенно моральные, труднопредсказуемы. Уже неоднократно Мустафа публично объявлял, что на будущих выборах выставит свою кандидатуру на пост президента, и, конечно, шансы победить были у него не меньше, чем у Шахрая или у Гришки Отрепьева, да у кого угодно вплоть до Жирика и Лебедюхи; и такая поспешная, нелепая расправа над пусть и зарвавшимся цеховиком нанесет непоправимый урон его политической респектабельности и репутации законопослушного гражданина, отца обездоленных и сирых. Немотивированной акцией он мог подорвать доверие низовых бандитских звеньев, а вкупе это огромная, почти неодолимая сила с большим капиталом и, главное, с разветвленными рычагами воздействия во всех регионах. Предыдущие выборы (или перевыборы) всероссийского пахана наглядно это подтвердили. Никакое перекупленное телевидение не переломит эту силу. Доната Сергеевича можно считать дьяволом во плоти, поднявшимся над Москвой из тьмы, но смешно принимать его за идиота. Он не станет рисковать карьерой ради садистского желания расправиться со строптивцем. Ставки вопиюще неравны.
Вдобавок, грустно думал Кир Малахов, у меня и выбора нет. Единожды струсив, братва отвернется от меня и останется только бежать, чтобы закончить свои дни в безвестности где-нибудь на берегу Атлантики, — зачем мне это?
Измученный тяжелыми мыслями, он едва задремал, и тут, будто во сне, услышал заполошный, горький вскрик Маланьи. Думал, померещилось, но вот — второй и третий раз, словно двумя этажами ниже резали свинью. «Тьфу ты, черт. Дурная баба! — без злобы выругался Малахов. — Сама не спит и добрым людям мешает». Поворочавшись еще час-другой, но так и не вкусив желанного покоя, он накинул халат и затейливыми переходами спустился к Маланьиной опочивальне. Дверь в убогую каморку под лестницей была приоткрыта, и он вошел без стука, толкнув дверь ногой.