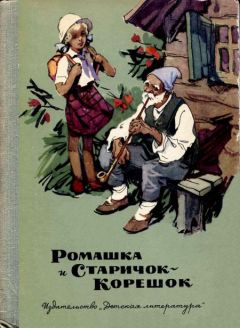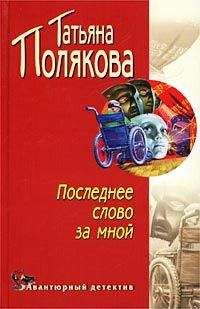Виктория Платова - Любовники в заснеженном саду
— Это не смешно, — заверила меня Динка. — Смешно будет завтра, когда я начну разбираться с этим ублюдком…
— С которым из них? — вяло поинтересовалась я.
— С Ленчиком. Испанца оставляю тебе. Так уж и быть… Возьмешь его на поруки?
Она откровенно издевалась надо мной, Динка. Издевалась, как издевалась всегда. А я не находила слов, чтобы противостоять ей. Так было всегда она издевалась, а я не находила слов. То есть находила, но уже потом, когда они были не нужны. Моя голова была плотно заставлена этими не сказанными вовремя, а потому бесполезными словами. Мне оставалось только бродить среди них, изредка пугаясь их скрытых под белыми, невостребованными простынями, очертаний.
— Ладно тебе… — примирительно сказала я. — Вот только…
— Что — только?
— Не нравится мне все это… Может, просто свалим отсюда подобру-поздорову, а? Пусть разбираются друг с другом… Какое нам до этого дело?
— Ну уж нет… Так просто я это не оставлю… Ты, конечно, можешь уйти, я тебя задерживать не буду… Да и…
— Что — и? — Я всегда чутко реагировала на все Динкины презрительные недомолвки. Отреагировала и сейчас.
— Ты мне мешаешь, если честно. Будешь ныть и под ногами путаться… Уходи. Уходи, уходи, уходи… Попытайся уйти. Уйти.
Уйти, уйти, уйти…
Я ухватилась за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку. Действительно, почему бы мне не уйти отсюда? Ничто меня здесь не держит, ни по чему я не буду тосковать долгими зимними вечерами в квартире с видом на Большую Неву… Ведь не по Ангелу тосковать же, в самом деле, хоть он и первый мой мужчина. Не по Рико, хотя он и первая моя бойцовая собака… Не по испанскому дому, хотя он и первый мой испанский дом… Ничто меня здесь не держит, замки раскурочены, ворота распахнуты настежь, улица легко просматривается сквозь плющ и вьюнок… Да и Ангел не сразу заметит мое исчезновение…
Но уйти — означало оставить Динку одну. Оставить Динку одну в сомнительной стае кобелей — двуногих и четвероногих. А против Ленчиковых лукавых фотомодельных губ ни один пистолет не устоит. И любой выстрел расцветет холостым конским каштаном…
Уйти — означало оставить одну себя, бедную забитую экс-звезду дуэта «Таис». И лишиться, пусть даже на время, этой моей ненависти к Динке. Такой же коротко постриженной, как и сама Динка, такой же живой, как она.
Живой.
Да. Именно ненависть к ней делала меня живой.
Да.
Именно эта чертова ненависть, беспощадная и бесполезная, как дурацкая фраза «тренируйся на кошках». Не слава, не оголтелое обожание фанатов, не жгучее любопытство журналистов, не джентльменский список Виксан, не, не, не… Ничто не могло сравниться с этой ненавистью…
Ничто.
Ай-ай, заблудиться бы в этой ненависти, как в узких улочках Barri Gotic, — и умереть в ней. Восхитительно живой…
— Уходи, — еще раз повторила Динка, и в ее голосе мне послышалась грусть.
Темно-вишневая грусть темно-вишневого поцелуя в «Питбуле» — того самого, единственно искреннего, незабытого, совсем незабытого. Поцелуя, который на секунду сделал нас одним существом. «Неужели это мы, Ренатка?..»
— Я не уйду, — твердо сказала я. Насколько могла — твердо. — Я останусь с тобой…
— Только этого не хватало, — поморщилась Динка. — Что за пафос, в натуре? Засунь его себе в жопу, может, полегчает.
— Засунула, — улыбнулась я. — Полегчало.
— Ладно, — улыбнулась Динка. — Только уговор: не рыдать, не рвать волосы… сама знаешь где… и под ногами не путаться. Обещаешь?
— Обещаю…
* * *…Трофеи, принесенные мной с Риеры Альты, были поделены нами поровну. Или почти поровну. Динке достался пистолет, мне — все остальное. Фотография «Мы в гостях у Пабло», на которой Динка даже внимание акцентировать не стала и «скорее всего договор», который и вправду оказался договором — на съем дома в Ронда-Литорал, того самого, в котором мы столько времени околачивались. Дом был снят на имя Пабло-Иманола Нуньеса за два дня до того, как наш с Ленчиком самолет приземлился в барселонском аэропорту Эль-Прат, еще одно, совсем неудивительно совпадение, еще одно звено в цепи, на одном конце которого болтался Ленчик, а на другом — Ангел. Теперь я нисколько не сомневалась, что дом этот был приготовлен специально для нас и весь его антураж был подогнан под нас — от девы Марии на кухонном подоконнике до собак в вольерах. Кончать в таком антураже с собой, под присмотром всех мыслимых католических святых — милое дело. А единственной правдой этого лживого дома был сам Ангел, его псы и его саксофон.
И больше ничего.
Даже распятие в моей комнате гроша ломаного не стоило. Даже оно.
Недаром все это время мне казалось, что дом отторгает Ангела, что он никогда не принадлежал ему, пожалуй, с эпитетом «лживый» я погорячилась. Все наоборот, все совсем наоборот. Дом был обычным, разве что слегка заброшенным. А лживым оказался Ангел. С самого начала.
Но, странное дело, даже несмотря на открывшуюся истину, Ангел не вызывал во мне никакой неприязни. Совсем напротив, я чувствовала к нему симпатию. Во-первых, он мой первый мужчина. Во-вторых — он мой первый мужчина. В-третьих — он мой первый мужчина. Продолжать можно до бесконечности, привкус собачатины во рту не станет от этого меньше.
Этот привкус усилился к вечеру, вернее, к ночи, когда Ангел вернулся.
Вместе с Рико.
От Динки я знала, что вторая половина дня ушла у Ангела на собачьи бои, именно поэтому мы болтали в саду в полной безопасности. Никто не надзирал за нами, никто за нами не следил, а дружелюбно раскрытые ворота держали на привязи крепче, чем запоры, амбарные замки и цепочки. Ангел вернулся именно тогда, когда все было решено, и мы с Динкой, чтобы не вызывать лишних подозрений, разбрелись по комнатам.
Динка зависла в их с Ангелом спальне, а я, как обычно, отправилась в библиотеку.
Там он меня и нашел.
Ближе к полуночи. Лежащей под пледом и тупо уставившейся в русско-испанский разговорник.
— Ну, как ты? — спросил у меня Ангел. Дружелюбный, как ворота, которые никогда не поздно запереть на засов.
— Нормально, — не отрывая взгляда от стойкого идиоматического выражения «Cuando recibiremos la respuesta definitiva?» [35], сказала я. — А ты?
— Сегодня хороший день, — осклабился Ангел. — Рико выиграл.
Рико выиграл, а ты проиграл, Ангел. Ты проиграл при любом раскладе. Хотя должны были проиграть мы. При любом раскладе. При любом… Сегодня и вправду хороший день. Я улыбнулась этой немудреной мысли, Ангел же отнес улыбку на свой счет.
— Прогулка пошла на пользу?
— Конечно… Mio costoso, — не удержалась я. Мне давно хотелось назвать Ангела именно так, как называл его Ленчик. Но случай предоставился только сейчас.
Произнеся это, я снова уткнулась в разговорник, краем глаза наблюдая за Ангелом. Интересно, как он отреагирует? В моем собственном сознании «mio costoso» было плотно увязано с Ленчиком. Интересно, насколько плотно оно увязано с самим Ангелом?
Нинасколько, вот хрень.
Ни один мускул не дрогнул на лице Ангела, впрочем, ангелам и не положено расстраиваться по пустякам, будь то порез опасной бритвой или случайно оброненная фраза с совсем не случайным подтекстом.
— Mio costoso?
— Ну да… Вот, изучаю разговорник. Красивый язык, такой нежный… Мне нравится твой язык, Ангел…
— Правда? — Ангел снова улыбнулся, распялил губы и по-собачьи вывалил наружу язык. — Правда, нравится?
— Очень.
— А мне — твой…
Это было не что иное, как приглашение к постели: такой привычной для Ангела и такой непривычной для меня. Приглашение к постели, в которой Ангел, как и все ангелы, был бесподобен. Он был бесподобен, а я была никакой, так что разломанного в честь Благовещения граната ожидать не приходится. Хотя то, что мы с Динкой живы, уже — благая весть. Жаль только, что нельзя сообщить об этом Ангелу.
То-то бы он удивился!..
— А мне — твой, девочка!.. Ну-ка, давай его сюда.
Шутки… Шутки-шутки… Шутки пьяного Мишутки. Гонки пьяного Артемки, как сказала бы Динка. Любовные глупости, которые должны восхищать, но от которых с души воротит. По крайней мере меня. Нет, Ангел, подарка в честь потери девственности ты от меня не дождешься. Ни птицы Кетцаль, ни раковин Каури, ни даже тыквы-горлянки, расписанной срамными картинками из «Камасутры»… Пока я лениво размышляла об этом, язык Ангела вплотную приблизился к моим губам и раздвинул их.
И завладел моим собственным языком.
И я тотчас же поняла, что ко вкусу собачьей шерсти добавилось что-то еще. Что-то еще, привнесенное извне, но такое же острое. Кровь? Пыльный брезент? Болотный осот? Забившиеся в раны насекомые?..
Только этого не хватало!
Еще секунда, и мне в глотку польется кровь Ангела, и на зубах осядет брезентовая пыль, и острые пики осота полоснут по небу, а на языке пристроится богомол… Вот хрень!..
Кажется, я отстранилась, и Ангел удивленно посмотрел на меня.