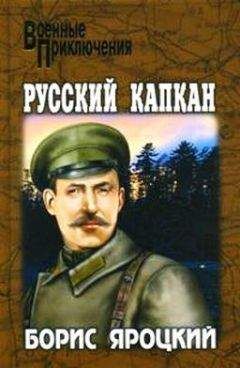Предчувствие смуты - Яроцкий Борис Михайлович
«Что с ней стало потом? — спросила Соломия. — Ее не тронули?»
«Для таких преступлений нет срока давности, но кто решительно порвал с прошлым…» — ответил тогда Гуменюк и не договорил главного.
Порвал… а дальше? Дальше жизнь потребует поступков, которые смогли бы искупить вину. Черное пятно закрашивается белой краской… Все будет зависеть от человека, если он осознает, что натворил…
С этими тревожными мыслями она вторично попала на Кавказ…
Соломия, слушая рассказ Гуменюка, с горечью думала: «Стоит ли мне заводить семью, рожать детей? Рано или поздно возмездие нагрянет…»
Но возмездие — область вероятного: могут разоблачить, а могут и нет — кому как повезет. На везение в бою все надеются. Кто верит в Бога, надеется на Бога. Но Бог помогает разве что везучим.
Шпехте стало не до радостей, когда он узнал, что девчата, за которых он взял аванс, исчезли из Чечни, очутились в расположении русских войск.
— Езжайте на Слобожанщину, — приказал Гуменюку. — Через прапорщика Перевышку узнайте, где они и можно ли с ними установить контакт? Если удастся вызволить, постарайтесь вернуть их во Львов.
Неожиданное поручение и обрадовало, и озадачило Зенона Мартыновича. Обрадовало тем, что появилась возможность снова встретиться с Валентиной Пунтус, матерью Ильи. С тех пор, как он побывал на Слобожанщине, он думал о ней постоянно. «Ну почему двадцать лет назад не екнуло сердце, что это моя судьба?» А ведь внутренний голос нашептывал: «Зенон, не выпускай из рук птицу своего счастья». Он, дурень, выпустил. Без него вырос сын-красавец. У него его кровь, а фамилия — чужая. Гордится его сыном какой-то замухрышка, хотя и председатель колхоза. Старшина Гуменюк сделал бы сына военнослужащим. У сына была бы чистая, как молодой снег, биография. В Советской армии хлопцы с чистой биографией выбиваются в полковники, а то и в генералы. И на ляд он сдался, пан Шпехта, этот недоделанный церэушник, без него Зенону Мартыновичу как легко жилось бы!
Но… ехать надо, выручать из беды своих землячек, которых он, старшина-сверхсрочник, а затем прапорщик, сделал мастерами спорта, открыл им широкую дорогу для заработка.
— Боюсь, это будет дорогое удовольствие, — произнес Зенон Мартынович: он не отказывался от поездки, но и не горел желанием усердствовать, как это делал раньше.
— На доброе дело валютой обеспечу, — твердо заверил адвокат. — Все расходы возьму на себя.
Зенон Мартынович тяжело вздохнул:
— Сначала надо найти Миколу. А это — задача со многими неизвестными… Придется посетить Сиротино.
— Посещай, но не задерживайся. И заодно проверь явки, которые мы подобрали для наших друзей-католиков.
— Разумеется, в приграничной зоне?
— Да нет, настаивают прокатиться вплоть до Воронежа. Перед поляками нужно будет отчитаться. Авансы мы берем, а отдача — нулевая.
Еще год назад задание, которое диктовал ему Шпехта, Зенон Мартынович воспринял бы как боевой приказ. Но все течет, все меняется — и в одну лужу не стоит плюхаться дважды. Как съездил на Слобожанщину, увидел Валентину Леонидовну, не придавленную семейными заботами, не постаревшую мать пятерых детей, а краснощекую молодицу, решил жить исключительно для себя: «Ни в какой Воронеж теперь меня не загонишь, — сказал себе в рифму. — А вдруг попадусь? И личное счастье накроется мокрым рядном. Буду гнить на Севере, надрываться на лесоповале, как надрывались под лай свирепых овчарок сотни идейных бандеровцев».
Полякам было известно, что проверить явки Шпехта поручит Гуменюку. Поляки умеют проваливать агентов дружественных разведок. Советская, а затем русская разведка до недавнего времени считалась дружеской. На продаже русских разведчиков польские агенты зарабатывали неплохие деньги.
Зенон Мартынович избегал поляков. Его дед по матери в годы Гражданской войны служил в Красной армии, под Варшавой попал в плен. В плену чуть было не умер с голоду. Когда его просили рассказать, как он выживал в плену, он отвечал, как отмахивался: «У поляков в плену не выживают».
Дед и умер с неприязнью к полякам. Не знал он того, что Бог всегда отворачивался от поляков, когда они вторгались в Россию с недобрыми целями.
4
В поезде на Слобожанщину соседом по купе оказался высокий худощавый блондин. Он назвался поляком из Торонто, но по акценту чувствовался американец. Только к чему этот маскарад? Американцы даже польского происхождения одеваются поприличней.
На вид поляку было лет сорок. На нем была простенькая поплиновая рубашка, устаревший галстук. Он производил на окружающих неприятное впечатление. Если не совсем нищий, то наверняка бедный. Серый пиджачок-букле, на локтях желтые заплаты из кожи какого-то мелкого зверька, серые в дудочку джинсовые брючки и неуклюжие на «манке» желтые туфли, какие когда-то носили послевоенные одесские стиляги. Вот в таком виде и появился этот поляк на Слобожанщине.
Так одеться ему посоветовали знакомые, перебравшиеся из России в Канаду: дескать, богатых иностранцев украинцы раздевают среди бела дня.
Блондин представился научным работником какого-то института в Торонто. Направлялся на Слобожанщину собирать вульгарный фольклор.
— Какой именно? — поинтересовались тут же.
— Чтобы присутствовала нецензурная лексика, — охотно отозвался поляк.
— На Украине цензуры больше нет, — заметил Зенон Мартынович. — Ее отменил первый самостийный президент. И в Верховной раде мата больше не будет. А Рада все еще ориентируется на Государственную думу.
Лежавший на верхней полке пассажир, по виду то ли шахтер, то ли нефтяник, с грубыми чертами волевого лица, как потом оказалось, матрос рыболовного сейнера, с тревогой произнес:
— Как же теперь без мата? Экономика разрушится.
— Ей уже и без мата хана, — отозвался второй лежачий сосед с верхней полки. — Что на Украине, что в России… одна хренотень.
— В Канаде надо власть менять, — сказал матрос.
— А при чем тут Канада?
— А при чем тут мат?
Завязывалась безобидная дискуссия. Иностранец полез в карман своих джинсовых брюк, в пиджачке-букле что-то запищало. Гуменюк догадался: собиратель вульгарной лексики включил диктофон.
— Слышь, шпион, или как там тебя? — обратился матрос к иностранцу. — Бесплатно подарю частушку. Мой дед-фронтовик, когда бывал сильно поддатым, переходил на любимый фольклор.
И запел, как был, под высоким градусом:
Дальше следовало нецензурное слово.
— Записал? — спросил иностранца.
— Сколько стоит ваше слово? — в свою очередь спросил поляк.
— Мое? Как у Сталина — на вес золота. А мы при их долбаной демократии раздаем его почти бесплатно. Как Россия раздает углеводороды. Чужого — не жалко.
— Смотрите — обанкротитесь.
Матрос приподнялся на локте. Произнес рокочущим басом:
— Этот вопрос вы не мне адресуйте. У нас есть правитель.
И вдруг сидевший возле окна старичок с белой головой, как одуванчик, о себе пискляво напомнил:
— Вы, я слышу, куда-то едете, молодой человек?
— Мамку хоронить. А меня злодеи сняли с самолета, я случайно выпил. Не дали долететь.
— Можете и не доехать.
— Но-но, старик, — угрожающе пробасил матрос. — Я за своими словами слежу, как свекруха за невесткой.
— И все же — лучше помолчите. Дольше проживете.
— А что — развращать иностранцев запрещается?
— Вас, несмышленых, жалко.
Матрос не унимался:
— Что жалеть нас? Мы, как осенние мухи, пожужжим и опять в спячку…
Зенон Мартынович, слушая эту вроде бы никчемную перебранку, понимал — разговор пустой. Пассажиры сойдут с поезда — каждый останется при своих интересах, но последствия будут разные: матрос за излишнюю болтливость когда-нибудь попадет на скамью подсудимых; старичок дотянет до лучших времен, которые наступят не скоро, переживет многих своих сверстников, умрет от несчастного случая. Это у него на лбу написано.