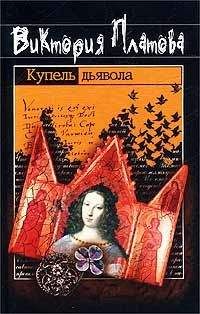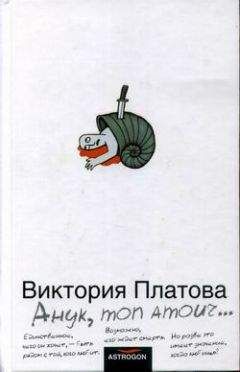Виктория Платова - Смерть в осколках вазы мэбен
Все как обычно. На сценическом пятачке уже топтались какие-то длинноволосики, настраивая свои инструменты, публика дегустировала алкогольные напитки, негромко переговариваясь. В баре редко бывало особенно шумно, а сейчас было еще и достаточно рано. Основной наплыв посетителей начнется часика через два.
Я уселась за столик, раздумывая о том, взять ли легкого вина или ограничиться минералкой. Но появившийся официант разрешил мои сомнения. С понимающей улыбкой он осведомился, не жду ли я кого, а затем предложил попробовать легкое белое — «Санобу» молдавского разлива. Я всегда очень скептически отношусь к белым винам, они напоминают мне кислую газировку, но официант оказался на высоте, и вино мне понравилось. Я потихоньку прихлебывала его, разглядывая публику.
А молодежи, кстати сказать, не так уж и много. В основном мужчины, которым далеко за сорок-пятьдесят. И не по одному, а парами-тройками. Спокойно о чем-то разговаривают, на вид они явно не рабочего происхождения. Скорее бизнесмены средней руки. И ни одного знакомого лица. А ведь в «Амальгаму» раньше часто наведывалась рокерская братия, но сейчас словно вымерли все, ни одной знакомой рожи.
Нет, постой. Вот этого человека я знаю. К приятелям его никак не отнесешь, и заговорить с ним я бы не рискнула. А Старый рокер ни на кого не обращает внимания. У него такой взгляд, словно он где-то далеко…
Как же они все надоели ему. Надоели до смертной тоски, от которой нет никакого избавления. Как ему надоело смотреть на эти бессмысленные лица, на эти пыжащиеся человеческие особи, которые ничего не могут после себя оставить, кроме огромной кучи дерьма. И каждый мнит себя кем-то, и каждый думает, что он такой значимый, словно пуп Земли, а вся Вселенная вертится вокруг него и его желаний. И рвутся, рвутся, как оглашенные, кто к богатству, кто к власти, кто к славе. Один умник, философ какой-то, заявил даже, что это желание и отличает человека от животного. Мудак… Знал бы он на самом деле, что отличает человека от животного.
А как похожи все эти мерзкие хари на звериные морды. И не просто звериные, а каких-то омерзительных насекомых. Раньше его тошнило, когда он только думал об этом, но теперь ничего — привык. Привык, но не смирился. Как же хотелось давить, крошить, уничтожать всех этих жуков, тараканов, слепней. С каким наслаждением он избавлял бы землю от этой ползучей нечисти.
И у них еще хватает наглости себя кем-то мнить. С их уродливыми лицами, безобразными фигурами, нелепыми конечностями. В своей жизни он ненавидел только одну вещь — зеркала. Они были ему отвратительны, так как всегда лгали.
Но у них был еще один порок — они отражали этих мерзких насекомых, заставляя тех поверить, что выглядят они просто отлично. Если бы он стал всемогущим, то уничтожил бы зеркала во всем мире. В нем вспыхивает радость только тогда, когда он видит осыпающиеся осколки. Но уже много-много дней душа его не знала радости.
А люди? Люди сами стали зеркалами. Они ходят и отражаются друг в друге. А потом еще имеют наглость удивляться: «Почему вокруг так много уродов?» Ему иногда до смертной тоски хотелось взять что-нибудь потяжелее и стукнуть по самодовольной роже какого-нибудь господинчика, чтобы увидеть, как голова его треснет, а лицо осыплют осколки. И тогда вспыхнет радость, вспыхнет и заполнит всю его душу, которой уже невыносимо смотреть на уродство мира и так хочется обрести что-то прекрасное.
Обрести, чтобы обращаться к нему в минуты душевной муки, когда ее, душу, наполняет темень. О, эта темень страшна, она не имеет ничего общего с обычной бессолнечной темнотой. В темноте бывает какой-то просвет, а эта пожирает все, надвигается и затопляет разум. И приходится барахтаться в этой смертной гиблой трясине, из которой нет спасения.
Теперь он научился чувствовать ее приближение. Чувствовать и усилием воли отодвигать подальше. Но он знает, что она рядом и может нахлынуть в любой момент. А после нее он становится другим. Меняется, как бы переходит в иную фазу. И мир тоже меняется, становится еще омерзительнее. Словно из одного грязного, мусорного мира попадаешь в другой, еще более гадкий.
Он помотал головой. Это помогает. Он давно не ширялся, но мозг не забыл эти ощущения. Мозг как бездонный колодец, в котором столько всего хранится. Он знает, что скоро мир начнет меняться, но пока все в норме. И он сможет еще немного посмотреть на тупые, самодовольные лица этой ползучей нечисти. Пусть стрекочут, пусть охорашиваются, расправляя крылышки и почесывая брюшки. Их лица одно омерзительнее другого, и он впитывает эту мерзость, чтобы однажды изрыгнуть ее из себя и очиститься.
А вот человеческое лицо. Странно, что она делает среди этих насекомых? Какие внимательные серые глаза! И какие глубокие! И чистые, как вода карельских озер, куда еще не успели добраться люди. Чистая и глубокая вода, такая холодная, что даст успокоение любой истерзанной душе…
Старый рокер медленно поднялся. Он смотрел прямо на меня, и появилось ощущение, что он заглядывает мне в душу, пытаясь что-то понять. Его взгляд давил своей тяжестью, но я не могла избавиться от мысли, что он сейчас далеко. Он вышел из-за столика и пошел прямо ко мне. Внутри все сжалось, сейчас он заговорит. Но Старый рокер прошел мимо, словно не видя ничего вокруг. Я перевела дыхание, и он обернулся.
— Ты зря появилась здесь, тебе тут не место.
И все. Через минуту его уже не было в баре. А до меня наконец дошло. Старый рокер не был пьян, и его слова не были бессмысленны. Он просто находился в другом мире, видно, доза была большой, и наркотик уже начал действовать. Старый рокер был в состоянии вольного полета. Он понятия не имеет, кто я, и никогда меня не вспомнит. Жаль. Я не рискнула заговорить, но в таком состоянии любой разговор с ним бесполезен.
Молодая команда что-то весело наяривала на своем пятачке, народу прибывало, а я все думала о Старом рокере. Было отчего-то страшно, словно я заглянула в запретную зону. Пожалуй, больше мне здесь делать нечего, пора отправляться домой.
Но домой я не поехала из какого-то странного упрямства.
Вино, что ли, подействовало? Да ведь я и выпила всего ничего. Но я рассудила, что если Герт и появился, то пусть сам теперь подождет. А я отправлюсь прямо к Карчинскому. И ничего он мне не сделает. Вот только пусть попробует поднять на меня руку! Узнает быстро, где раки зимуют! Подумаешь, возомнил себя невесть кем! Художник, тоже мне. Я сама видела в корейском ресторане картины, и они совсем не хуже, чем у него. Только за его мазню отваливают немыслимые бабки, а эти только радуют публику. Понятно, какие из них ценнее.
По мне, то, что приобретают коллекционеры, потеряно для людей навсегда. В музее — другое дело. В музей каждый может прийти, чтобы насладиться искусством. А я тоже хороша! У самой дома висит картина Карчинского. Выходит, я тоже запрятала ее в свой мирок и скрываю от людей. Но ведь я легко могу отнести ее в редакцию, пусть все смотрят. А что? Как еще моим замотанным сверх всякой меры коллегам приобщаться к высокому искусству? Вот и пусть понемногу приобщаются…
Воинственный энтузиазм переполнял меня, когда я выруливала от «Амальгамы», но за время пути немного поутих. Я все же решила наведаться в мастерскую Карчинского, но действовать осмотрительно и осторожно.
Так. Окна темные, и, похоже, там никого нет. Но это может быть и обманчиво. Вдруг он сидит и нарочно не зажигает свет? Или вообще отсутствует. Но ведь он может в любой момент вернуться, поэтому стоит пока посидеть здесь и подождать. Жаль, сигарет осталось маловато, но ничего, потерплю. Я покрутила ручку приемника, нашла «Русское радио», сделала потише, устроилась поудобнее на сиденье и приготовилась ждать.
Дворик жил обычной вечерней жизнью. Подъезжали машины, проходили люди, торопясь по домам. Стайка подростков выпорхнула из подъезда и отправилась на поиски вечерних развлечений. Две женщины остановились совсем недалеко от меня посудачить. Одну из них, остроносенькую дворничиху, я узнала. Она, захлебываясь от восторга, рассказывала своей знакомой последние новости о каком-то Витьке, который спьяну перепутал дома и колотился среди ночи в чужую дверь.
Эпопея незадачливого Витька расписывалась в столь красочных подробностях, что меня это окончательно достало. Я решила покинуть уютную машину и направиться на поиски ближайшего киоска, где продавались сигареты, но тут бабы вспомнили про какой-то сериал и поспешили распрощаться. Я с облегчением вздохнула. Выбираться на холод и сырость из уютной машины не очень-то и хотелось. Я снова покрутила ручку приемника, послушала городские новости, прогноз погоды, вернулась на музыкальную волну и стала ждать дальше.
Очнулась я внезапно, словно кто-то меня толкнул. Вокруг было тихо, лишь едва шелестел мелкий дождик. Все тело затекло. Я попробовала пошевелиться и взглянула на часы. Без пяти два. Не слабо! Окна в мастерской художника по-прежнему были темными. Ладно, он, допустим, там и не появлялся, но, может быть, он прошел незаметно, пока я дремала. Вот так номер! Я сижу его караулю, а сама заснула. Ну теперь-то точно здесь больше делать нечего, пора возвращаться домой.