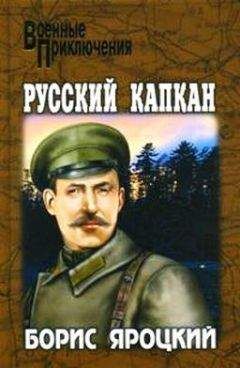Предчувствие смуты - Яроцкий Борис Михайлович
Михаил Калтаков для себя — и тоже по-своему — открывал предгорья Кавказа и его обитателей. Первую чеченскую войну он начинал командиром взвода. Заместителем у него был добродушный, улыбчивый украинец Никита Перевышко. Призывался он с Украины, когда еще был Советский Союз, и ничто не говорило о скором распаде великой державы. Тогда никто не верил, что через какое-то время будут отдельно существовать Россия и Украина со своими вооруженными силами.
Никита сверхсрочником стал еще в Советской армии, продолжил службу уже в Российской армии. Остаться служить по контракту ему посоветовал капитан Калтаков. Они дружили не первый год, и дружба завязалась, когда в общежитии занимали одну комнату. Тогда они только мечтали обзавестись семьями.
У Никиты на примете была девушка, землячка Юля. Они переписывались, но в любви друг другу не признавались. Это была дружеская переписка вчерашних школьных товарищей. Никита себя не торопил: вот екнет сердце, тогда он ей и в любви признается, и пригласит жить в военном городке, только не в горячей точке. Пригласит к себе, когда для этого, как думал он, появятся подходящие условия.
Повезло Михаилу. Он долго не раздумывал, не ждал подходящих условий, ждал очередного отпуска. Не поехал в Ново-Анненский район, где жили его родители, проводил свой отпуск в Воронеже. Для этого у него вдруг появилась веская причина.
В Воронеже Михаил женился на студентке мединститута Тамаре Кунченко. У них родилась дочь. Никита попросил назвать ее Клавдией, в честь своей матери. Девочка, как ему казалось, была похожа на Клавдию Петровну: такая же кареглазая и на щечках ямочки, а вот какой будет цвет волос, покажут годы.
В церкви Святого Георгия девочку окрестили. Никита стал посаженым отцом. Домой писал редко, и об этом событии лишь упомянул. Из Чечни письмами не баловал — послал только одну открытку: поздравил родителей с Новым годом, а заодно и с Новым веком. Но ни слова ни полслова, что воюет и что награжден российским орденом «За личное мужество».
Командир погиб на минном поле. В конце мая, когда предгорья Главного Кавказского хребта покрываются молодой зеленью. Саперы капитана Калтакова снимали дистанционные мины. Операцией руководил сам командир.
Басаевский снайпер, как предполагали наблюдатели, засел в груде камней на противоположном склоне заросшего дубняком ущелья. Зачистка местности ничего не дала: ни боевиков, ни их следов — чисто. Но как только саперы вышли на минное поле и углубились в работу, пуля угодила командиру в голову.
Выстрела никто не услышал. Видимо, у снайпера винтовка была с глушителем. Откуда был выстрел, тоже никто не понял. Повторно произвели зачистку. И опять никого не обнаружили. Стреляли из ущелья, где даже в солнечный день царит предвечерний сумрак.
Капитан умер не сразу. В госпитале он пришел в сознание, увидел склоненного над ним прапорщика Перевышку, прошептал:
— Не оставь Тамару…
Это были его последние слова.
Гроб с телом капитана сопровождали до самого Воронежа прапорщик Перевышко и четыре солдата из саперной роты. Никита передал слова покойного. От себя добавил:
— Я тебя, Тамара, никогда не оставлю.
Бледная, как обескровленная, она выслушала его молча и, как тогда показалось Никите, не придала его словам значения, восприняла их как утешение.
Вернувшись в Чечню, Никита не находил себе места. Он чувствовал себя виновным в гибели друга. Ведь ничто не предвещало опасности: весь склон, откуда последовал выстрел, был истоптан солдатскими сапогами, осмотрены все расщелины, где мог бы затаиться снайпер. Было больно осознавать свою непростительную оплошность: после зачистки нельзя было притуплять внимание к этому проклятому склону. Боевик, несомненно, следил, как только федералы после зачистки покинут склон, заранее облюбованную позицию займет снайпер.
Только фронтовики знают, что такое лишиться надежного друга, не однажды проверенного в бою. Душа горела местью.
Русский человек по природе не мстителен, а русским Никита считает себя с тех пор, как надел погоны солдата Советской армии. Дома он говорил, как говорят на Слобожанщине, русские слова с украинским произношением, и это неистребимое «шо» выдавало в нем слобожанина.
Никто над ним не подтрунивал ни в глаза, ни за глаза. Крепкая коренастая фигура как бы подчеркивала, что в лице этого почерневшего под южным солнцем прапорщика легко угадывается старшина подразделения. У командования за ним давно уже закрепилась слава мужика хозяйственного, прижимистого, в меру хитрого и немногословного. Он знал себе цену, берег авторитет командира, не любил красоваться перед начальством. Но если что делал, делал основательно, добротно. Особых подвигов за ним не числилось. Он служил, как служит большинство контрактников: на работу не напрашивался и от работы не увиливал. Что приказывали, то и выполнял.
В этот раз никто ему ничего не приказывал. Он поклялся себе отомстить за смерть командира и друга. В тайну операции посвятил своих начальников — командира полка и командира батальона. На операцию подобрал двух опытных саперов. На них он надеялся, как на себя. Один из них — сержант-подрывник Генрих Геллер, не пожелавший с родителями выехать в Германию, когда была мода на массовый выезд немцев, остался в России, на своей родине, второй — рядовой Кияшко — из донских казаков, умевший стрелять из автомата не хуже дивизионных снайперов.
С наступлением темноты они буднично покидали городок. В роте считали, что прапорщик с сержантом Геллером и рядовым Кияшко дежурят по комендатуре. Но в комендатуре их никто не видел, как не видели и на дороге недалеко от городка, где стоял грузовик, принадлежавший саперной роте.
Грузовик стоял со вчерашнего вечера. Случайные пешеходы заглядывали через борт. Ребятишки попытались даже открыть ящик. Там оказались противотанковые мины. Оставленный без присмотра грузовик никого не удивил. Бывало, что оставляли на дороге и БТРы. Любая техника ломается, и не всегда вовремя удается ее отбуксировать в ремонтную мастерскую.
Только на четвертую ночь, находясь в засаде, саперы заметили человека, подползавшего к грузовику. За ним на некотором удалении ползли еще двое, потом еще двое. При этом соотношении брать живыми уже не представлялось возможным, и прапорщик приказал сержанту Геллеру на пути отхода пластунов поставить на боевой взвод растяжку.
Мина сработала, когда двое возвращались с поклажей. Остальные, как предполагал прапорщик, не побежали от грузовика, а залегли в кювете.
«Вора, кто б он ни был, взять живым», — прапорщик помнил слова командира полка полковника Замятина. Ради языка и была продумана эта операция.
В направлении грузовой машины Геллер выстрелил из ракетницы. На какое-то мгновение вокруг стало светло, как днем. По месту засады саперов ударили сразу два гранатомета.
В ответ открыл огонь из автомата Иван Кияшко. Стреляли отовсюду. И тут под шум стрельбы из ближайшего терновника выскочил человек. А ведь час назад это место было тщательно проверено.
Человек в черном оказался в пяти метрах от снайпера. Тот увлекся стрельбой по кювету и не сразу заметил опасности.
Человек украдкой обходил снайпера сзади, в руке он держал то ли пистолет, то ли нож. Уже не было времени схватить лежавший рядом автомат. И сержант Геллер тоже помочь не мог. Они оба не успевали. И тогда прапорщик в три прыжка бросился на человека в черном. Тот взмахнул ножом, прапорщик почувствовал, как лезвие ножа полоснуло по куртке, вошло в плечо. Железными пальцами правой руки он перехватил руку с ножом, присев, подставил раненое плечо под локоть нападавшего, и в следующий миг услышал, как глухо хрустнул локтевой сустав. Человек в черном жалобно взвыл и, придавленный к земле мускулистым телом прапорщика, почти без сопротивления дал связать себе руки.
Захватили тогда двух нападавших, и то лишь потому, что они были ранены. Остальным удалось уйти. Не унесли и муляжи мин. Муляжи могли пригодиться и для следующего раза, хотя следующего могло и не быть. Басаевцы — ученики особые, свои ошибки, как правило, не повторяют.