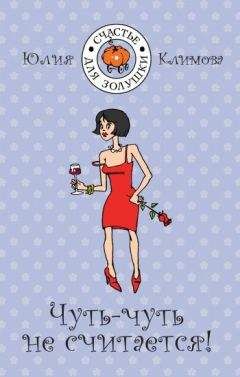Алла Полянская - Слишком чужая, слишком своя
— Кто там? Что надо? — Старческий голос, совсем близко. Наверное, женщина увидела, как остановилась машина, и вышла посмотреть.
— Вы — Тамара Семеновна? — Я не узнаю свой голос. Голова болит...
— Да, это я. А вы кто? Чего вам надо?
— У меня к вам письмо от вашей сестры, Марии Семеновны. Вот, прошу.
Голова кружится так, что все вокруг плывет. Если я сейчас упаду, встать уже не смогу.
— И что я здесь увижу? Темно. Утром приходи, — я вижу знакомое лицо, только старше. Женщина опирается на палку. — О, да тебе совсем худо! Что с тобой, дочка? Эй, кто там! Открывайте ворота, заезжайте. Идем в дом, на тебе лица нет.
Я иду за ней. Шаг. Еще шаг. Я должна дойти. Побеленная верандочка, лампочка вверху освещает часть двора. Печь возле сарая. Стеклянные банки сушатся на рожках. Под стеной — широкая лавка. Я должна до нее дойти. Гудит мошкара, которая слетелась на свет. Двери занавешены полотном — от мух, наверное. Тихо-тихо, только стрекочет кузнечик и слышна далекая музыка.
— Ну да, это Машкин почерк, всегда царапала как курица лапой. Она тут просит приютить тебя... Эй, что с тобой? — Теплые старческие руки поддерживают меня. — Хлопцы, ну-ка скорее сюда! Что с тобой, дочка?
А что со мной? Ничего. Просто в Темзе слишком холодная вода. Даже летом. Холодная темная вода.
16
Потолок побелен мелом. На стене — коврик ручной работы с большими яркими маками. Я лежу на высокой железной кровати и чувствую запах накрахмаленного белья. Пол застелен полосатыми домоткаными дорожками, круглый стол, накрытый скатертью с бахромой. Икона в углу. И фотографии, фотографии. Большей частью черно-белые, кое-где цветные. На окнах — старенькие, но чистые белые занавески — не тюлевые, а простые. И пахнет так..
То ли сухой травой, то ли какими-то лекарствами, чисто вымытым полом, белой глиной... Всем сразу. Мне бы еще припомнить, где я и как сюда попала. Мы ехали по дороге, я... Голова у меня болела. Что там было? Плохая дорога, эмалированный номерок на воротах и мошкара кружилась при свете лампочки... Сколько я так лежу? И где Вольдек? Черт, надо бежать отсюда.
— А, ты проснулась.
Я не заметила, как в комнату вошла старушка. Вошла неслышно, как призрак. Так, словно она — тоже часть интерьера. Так оно, наверное, и есть.
— Где я? Где Вольдек? — Эта женщина не опасна.
— А ты разве не помнишь? Я — Тамара Семеновна, ты у меня дома. Ты же сюда ехала? А хлопцы в огороде, картошку копают. А чего ж, парни здоровые, сильные, вот и помогут бабке, потому как я в доме еще кое-как передвигаюсь, а на улицу — палку беру, Колька Ларионов, спасибо ему, выстрогал еще в прошлом году. А хлопцы вчера дрова кололи, все до капли перепилили, порубили и в сарай занесли, а сегодня картошечку копают. Ты лежи, я тебе поесть принесу.
Значит, вчерашний день канул в Лету.Вольдек и Филя пилили и кололи дрова, а я валялась здесь. Как такое могло случиться? Но я могу встать, потому что голова у меня больше не болит. Я чувствую себя неплохо. Нечего валяться.
— Если ты сейчас встанешь, все начнется сначала. Тебе нужно лежать по крайней мере неделю.
Старушка внесла поднос. На нем — тарелка, в которой что-то чертовски аппетитно пахнет. Ага, картошка с малосольным огурцом. В чашке — компот.
— Ешь, дочка. Тебе надо есть, ты совсем прозрачная. Разве это дело — доводить себя до такого истощения? Да еще Володя говорил, что тебе делали такую операцию. Я б этих городских врачей стреляла за то, что выпустили тебя из больницы.
— Они не пускали, я сама ушла.
— Вот я и говорю. Разве можно такое делать? Я проработала в этом селе сорок четыре года фельдшером. Уже прививала внуков своих. А навидалась всякого, особенно в голодовку. Но ни разу не видела, чтобы человек сам себя вот так загонял в могилу. Хорошо еще, что хоть сюда живой добралась, а я уже выхожу тебя. Травами буду лечить, поставлю на ноги. Ты ешь, а этим потом запьешь.
Жидкость в чашке неплохая на вкус, немного горьковата, но жажду утоляет. Если бы мне еще помыться... И рубашка на мне не моя. Боже, где мои сумки?
— Вы меня извините, что я вам гостей незваных привела, Мария Семеновна писала только обо мне...
— Незачем извиняться. Хлопцы хорошие, неленивые, учтивые. Только прически нехороши. Но это ж такая теперь мода, я понимаю. Старшенький младшего воспитывает, а тот только посапывает. Они братья?
— Нет. Филя — сирота.
— Бедный ребенок!
— Да. Мне бы помыться и разобрать вещи. Где мои сумки?
— А здесь, под кроватью. Володя сказал, что ты не любишь, когда роются в твоих вещах. Так мы с ним перенесли тебя сюда, и я надела на тебя свою рубашку. Еще в молодости купила, да так и не носила, лежала она у меня без дела. Идем, только потихоньку. В ушате вода небось уже теплая.
Я спускаюсь с кровати и достаю сумку. Вот здесь мои любимые штуки — шампунь, мыло, крем и прочее. Хорошо, когда все это есть! Помнится, когда-то в Энсенаде мне пришлось удирать из отеля ночью, впопыхах, а купить мыло там проблема, во всяком случае в деревеньках аборигены обходятся без лишней роскоши. Так это для меня было страшнее, чем когда меня укусила гремучая змея, а мой проводник нечищеными зубами высасывал яд из раны. Я тогда едва не спятила. Спасло меня только то, что несколько дней я была в отключке, а потом нас нашли.
Между кустами притаился большой ушат. Не знаю, есть ли еще где-то такая штука, никогда не видела. Вода в нем, нагретая солнцем, отсвечивает бликами. Я быстренько раздеваюсь и берусь за кружку. Жизнь — хорошая штука, если есть где помыться. И воспоминания смываются теплой летней водой.
...— Смотри, милый, тебе нравится?
Худая темноволосая девушка демонстрирует наряд: красное шелковое платье, отделанное мехом под цвет, и черную небольшую шляпку, которая угрожающе топорщится перьями.
— Немного претенциозно. И цвет не твой. А модель ужасающе тощая, — теплая ладонь Эрика гладит мои пальцы. — Мне нравится, когда у женщины есть какие-то округлости, помимо головы. Вот как у тебя.
— Милый, видишь вон там — человек с фотокамерой? Он такой странный.
— Обычный репортер. Фотографирует показ, смотри, здесь таких много.
— Нет, обрати внимание: он не фотографирует моделей на подиуме, он даже не сможет захватить их объективом под таким углом. Смотри: он фотографирует публику, — странный репортер, зачем ему такой ракурс?
— Значит, папарацци из какой-то бульварной газетки. Что с тобой, котенок? Обыкновенный бульварный писака. Жить-то всем надо! Завтра мы можем появиться в газетах.
Нет, что бы он ни говорил, в голове мигает красная лампочка: опасность! Как репортер дешевой газетки оказался здесь? Эрик это не учел, потому что это не киносценарий, а в жизни он просто большой ребенок. Он до сих пор не простил матери то, что она бросила их с отцом, а на многое не обращает внимания. С тех пор как мы вместе, у него поубавилось неприятностей, поэтому его агент, Тимоти Джонс, просто молится на меня.
— Керстин, дорогая, только тебе под силу справиться с его бешеным характером. И только мы с тобой знаем, что он гениален. Так что, если удержишь его в узде, я гарантирую: о нем будет говорить весь мир!
Проклятый Тим все сразу обо мне понял. Но он делает вид, что так и надо — и я благодарна ему за это. Кстати, а где этот репортер? Куда пропал? Я бы пообщалась с ним где-нибудь наедине. В звуконепроницаемой комнате. Не нравится мне все это...
Мне следовало тогда проследить за этим ублюдком и спросить у него. Но я была слишком счастливой — или слишком глупой? Нет. Я тогда была слишком счастлива. Впервые за долгие годы беленькая окровавленная головка Стивена не склонялась мне на грудь ночью, потому что рядом был Эрик. Он утешал меня, когда я плакала во сне. Я была тогда слишком счастлива, чтоб заметить что-то еще. Значит, я сама во всем виновата. Я могла остановить это — еще тогда. И сейчас не сидела бы здесь, где все для меня чужое, а нянчила бы кудрявого ребенка с синими продолговатыми глазами. Ребенка от Эрика. Прости, любимый, это все — моя вина. Я не уберегла наше счастье...
— Рад видеть тебя среди живых.
Такой громила, а ходит тихо, как индеец.
— Само собой. Трудно было раньше разбудить?
— Нет. Хотел отдохнуть от тебя. Было очень тихо. Но теперь, конечно, всему конец. Идем есть кукурузу, мы. там с Филей наломали и наварили. Вкусная! Выходи на улицу, только надень что-нибудь, потому что я за себя не ручаюсь.
На улице вовсю светит солнце. Как красиво! Только одно и приходит мне в голову: как красиво! Забор увит хмелем, вьюнком, перед домом цветник, возле печки —блестящие листья хрена. Перед летней кухней яблоня, усыпанная красно-желтыми яблоками. На скамейке сидит Филя и грызет желтый початок кукурузы. Как ни странно, он чистый, одежда на нем тоже чистая, на лице — выражение безграничного счастья. Хорошо, что я прихватила его с собой. Меня не будет мучить совесть.