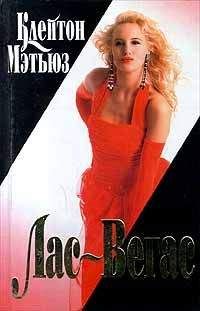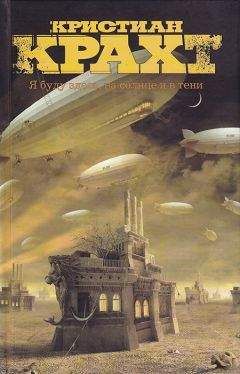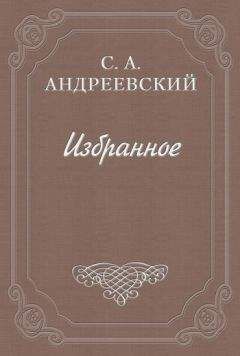Инна Тронина - Отторжение
— Дая, выбора у тебя нет. Хозяин очень гневается.
Косарев медленно поднял веки. Ресницы у него оказались белёсыми. Значит, брови он красил — как гей*.
— Почему-то шеф не разрешил отослать тебя в столицу. Толком ничего не объяснил. Пусть, говорит, пока тут побудет. Дая, не говори никому и никогда, что видела его, была на ужине. — «Брат» приложил палец к губам. — Усекаешь?
— Усекаю.
Мне сделалось по-настоящему страшно. Ковьяр хочет задержать меня во Владике. Значит, подозревает. И надо бежать, бежать, пока не поздно. Любым способом выбраться отсюда в город, и там… Там во всех случаях будет легче.
— Эд, хозяин мне за Гуляева мстит? Так ценил его?
— Я ж говорил — как зеницу ока! — Косарев взглянул на меня как-то по-новому. Взял за подбородок жёсткими пальцами. — Папан говорил, что ты другая, Дайана. И я тебя представляла иначе.
— Какая?
Я старалась вести себя так, как если бы Эдуард был настоящим моим братом. Что бы я сделала? Обиделась? Рассмеялась? Стала оправдываться? Пропустила мимо ушей? Скорее всего, здесь уместно лёгкое недоумение.
— Отец жаловался, что ты — безвольная мечтательница. К тому же, в компаниях пристрастилась к наркотикам. Что-то про истерию упоминал. Но я тогда не думал, что придётся свидеться. Ты всё перед глазами маленькая стояла. Года три тебе было. А потом у нас с мачехой контакты разладились. А папан принадлежал к типу подкаблучников. — Косарев перекрестился. — Грех о мёртвых худо говорить, но из песни слов не выкинешь. Я думал, что ты папин характер взяла. А оказалось — мачехин.
Эдик отпустил мой подбородок, покрасневший от его жёстких шершавых пальцев. Посмотрел на свои огромные золотые часы.
— Дая, художник нас к девяти ждёт, сегодня. Имей это в виду. Дальше я уезжаю. Хочу тебя пристроить, чтобы душа не болела. Фотку твою художнику показали — он от счастья слюной изошёл. Конечно, придётся и его пригреть. Но, папан говорил, ты с седьмого класса гуляешь. Или он чего-то не так понял?
— Ну, допустим…
Я чуть не расхохоталась, представив себя трахнутой в седьмом классе. Папа бы меня к забору гвоздями прибил. А мама моего сексуального партнёра своими руками кастрировала. Она ведь так и не узнала, что я стала женщиной. Может, оно и к лучшему. Ей бы это — как нож в сердце. Ведь я никак не могла выйти замуж за этого человека.
— Только зачем тебе, Эдик, это знать?
— Мне всё равно, если честно. Отец с мачехой очень горевали. Надо же, как ты на неё похожа — прямо даже тошнит. И воля у неё была стальная. Совсем отца скрутила — в бараний рог. Ты тоже будешь так мужиков уродовать.
Я рассматривала костюм Косарева из серой тонкой шерсти. Кажется, от Кардена. Галстук и нагрудный платок, усыпанные горохом цветов российского флага, совсем не шли к нему. Наверное, надо возмутиться, что Эд так пренебрежительно отзывается о моей матери. То есть не моей, а Дайаниной. Я слышала, что она была женщиной властной и скандальной. Могла и засесть у пасынка в печёнках.
Косарев проверяет, моя ли это мать? Ведь скажи он такое про мою родную мамочку, я залепила бы ему по вывеске. И пусть бы потом Косарев меня хоть пристрелил. Но Дайана не стала бы возмущаться — подумаешь, делов-то!..
— Это же надо, как по-разному мы с отцом воспринимали её, да и тебя тоже! Во вздорности мачехи он находил очаровательную женскую эмоциональность. Спесь считал гордостью. Инфантильное поведение называл признаком молодой души…
Косарев шевелил буграми мышц под костюмом и внимательно рассматривал свои ногти. Я кусала губы, пытаясь сделать лицо плаксивым, но не испуганным. Эдуард взял меня сразу за обе руки, шмыгнул носом.
— Ты не обижайся, сеструха. Это — только моё мнение. Я знаю, как тебе тяжко. Отец говорил, что ты глубоко верующая. А ведь ни разу не спросила, где здесь церковь. И креста на тебе я не видел тоже. В тот вечер, когда был убит Гуляев, я решил, что с тебя его сорвали. Но и после, и сейчас ты не надела крест. Не хочешь помолиться, покаяться?
— Нет, не хочу. Гуляев сам во всём виноват. А крест я действительно где-то потеряла. Не хотела приставать к тебе с этим. Думала — сама разберусь…
Я решила надеть крест Дайаны — якобы нашла его среди вещей. Надо сделать это — ради главного дела. Интересно, скажет ли он насчёт кошек?…
— Твои убеждения запрещают тебе ненавидеть обидчика, — назидательно произнёс Косарев. Он поднялся, взял шляпу и плащ.
Я тоже встала с постели.
— Значит, грешна.
Мне с трудом удавалось сдерживать улыбку — такой нелепостью казалась сама мысль о покаянии.
— Мы когда едем, Эд? Мне лицо нарисовать нужно.
— Рисуй до восьми. — Косарев направился к двери. — В девять мы должны встретиться с Веденяпиным. Это — фамилия художника. Постарайся нарядиться так, чтобы произвести на него впечатление. Всегда помни о том, что дело об убийстве Гуляева хозяин замял на условиях твоего полного подчинения. И ещё — сюда ты больше не вернёшься. Веденяпин поселит тебя на своей хазе. Потом подберём тебе подходящий вариант.
Косарев нахлобучил шляпу, натянул белый плащ, будто бы опять собирался на улицу.
— Готовься. Заеду за тобой ровно в восемь. И манатки собери, чтобы мне в дамских трусиках не копаться. Кстати, как ты, выздоровела?
— Вполне. — Я вымученно улыбнулась.
Когда за Косаревым захлопнулась дверь, я стиснула виски ледяными ладонями. Меня опять трясло, как два дня назад. Каждый нерв дрожал — натянутый, как гитарная струна. Я боялась, что хоть один лопнет — и я потеряю сознание. Тогда я не смогу следить за собственной речью и наговорю недозволенного.
Меня разрывали противоречивые чувства. Я радовалась, что попаду в город, смогу уговорить художника отпустить меня погулять. А уж там как-нибудь доберусь до людей Гая, которые живут во Владике. Попрошу спрятать меня, переправить в Москву. Но ведь я могу и засыпаться. Тогда — частная тюрьма, арест за убийство, долгий срок или смерть. Но попробовать стоит — чтобы потом не винить себя в трусости, чтобы не стыдиться перед людьми и собственной совестью…
12 октября (поздний вечер). Я жую круглый сэндвич с ванильной начинкой и пью кофе. В небольшом уютном ресторанчике тепло, мягко светят бра, стреляют поленья в камине. Ужас охватил меня только за этим столиком, словно сидел на соседнем стуле. Я убила пятерых, и только одну родила. Мне зябко и тоскливо.
Но, к моему удивлению, стыда нет. Я доложила руководству о первом, выполненном мною задании. Другое дело, что с домашним доктором Ковьяра мы больше не увидимся. И передать ответ Прохора Гая на мою просьбу об эвакуации он не может.
Эдик заехал за мной, как и обещал, восемь часов вечера. Он даже не переоделся — лишь настроение сменилось на прямо противоположное. Утром благодушный, сейчас «братец» стал злым. Как мне показалось, даже испуганным.
В бронированный «мерс», кроме нас, сели шофёр и охранник. Косарев, как я знала, тоже был вооружён. Очень долго, как мне показалось, мы добирались до города. Когда, наконец, приехали во Владик, там отключили электричество. Лимузину пришлось пробираться к ресторанчику, рассекая темноту светом мощных фар.
Перенасыщенный влагой воздух дымился перед лобовым стеклом. Мне казалось, что мы попали на другую планету. И теперь бултыхаемся на таинственном вездеходе, а за каждым поворотом, в каждой яме нас подстерегает опасность.
Удивительно — краевой центр, здесь есть университет. Туда и пыталась поступить мать Прохора Гая. Имеется филиал Академии наук, несколько институтов, театры, музеи. И — темень, как в глухой деревне. Город весь на сопках; по нему очень сложно передвигаться. Пока доползли до Центрального района, трижды попадали в «пробки».
Наконец, электричество дали, и наши дела сразу пошли веселее. Художник Веденяпин жил где-то на берегу Амурского залива, в своём коттедже. Он приехал на час раньше нас и ждал у входа в ресторан. Когда мы приехали, очень радушно улыбнулся. Мне же было не до смеха.
Этот художник имел внешность типа «козья рожа», хоть и пользовался благами знаменитых дальневосточных курортов — климатических и грязевых. Теперь они стали недоступны подавляющему числу жителей Приморья.
Веденяпин — тощий, с бородкой клинышком, в кожаных штанах и сбитых кроссовках — проходил сквозь стены и двери благодаря своему знакомству с влиятельнейшими людьми края. Он тут же взял меня под локоть, сияя обширной лысиной. Косарев думал о своём и скрипел зубами, будто на лицо ему села муха. Художник приехал на новенькой «Тойоте-Крессиде», о чём и сообщил почему-то мне. Я вежливо улыбнулась и промолчала.
Нас провели за столик, всегда занимаемый Косаревым. Крахмальная чистейшая скатерть пахла лавандой. Я ёжилась, не зная, куда деть руки. Вспоминала тигра, которого, по распоряжению Ковьяра, выпускали на ночь бродить вокруг коттеджа, за забором из валунов. Как выяснилось уже после убийства Гуляева, в зоопарке не было только слона. А вот крокодилов было даже два.