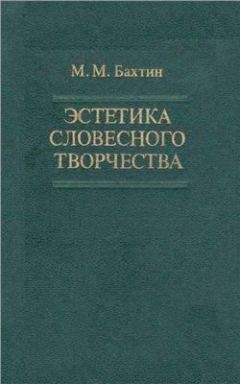Владимир Гурвич - Деньги дороже крови
— Я согласна. Когда идем?
— Скоро. Сейчас позвоню этому Подымову, и он зайдет за ними. Его редакцию расположена всего в двух кварталов отсюда.
— Хорошо, я пока приготовлюсь.
Это был знак, что мне пора уходить. Что я, хотя и с большим сожалением, но сделал.
Эту экскурсию, если ее можно так назвать, я не забуду до конца своей жизни. Причем, сразу по нескольким причинам. Такого отчаяния, такой нищеты я мало видел в своей жизни. Некоторые люди были по-настоящему изнемождены, а дети — типичные рахиты. Это было не просто страшно, я даже затрудняюсь подобрать название тому, что я испытывал. Скорей это была смесь отчаяния, потрясения, возмущения, ненависти к тем, кто довел честных и трудолюбивых работников до такого ужасного, в общем нечеловеческого, состояния.
Но не мне сильным было мое впечатление от Царегородцевой. По мере того, как мы переходили от одного дома к другому, от одной семьи к другой, ее прекрасное лицо становилось все более бледным, пока не стало просто каким-то мертвенным. Временами мне даже казалось, что от страшных впечатлений она вот-вот потеряет сознание.
По ее предложению мы зашли в магазин и выложили в нем всю наличность. Зато нагрузились консервами, конфетами, пакетами с фруктами, а также игрушками для детей. И в каждом доме оставляли такой подарочный набор.
Однако брали его не слишком охотно, люди явно стеснялись своей нищеты. И если бы не сопровождавший нас Подымов, нас просто бы выгнали. А то и сделали с нами кое-то и похуже.
Наконец мы покинули поселок металлургов, и вышли на центральные улицы города. Царегородцева шла, словно лунатик, ничего не видя впереди себя. Я понимал, что у нее перед глазами по-прежнему стоят картины только что увиденной реальной жизни людей, о которой до этого она практически ничего не знала. Чтобы она не упала, я взял ее за локоть, но она, кажется, этого даже не почувствовала.
Первоначально скептически настроенный по отношению к этой столичной штучке Подымов переменил о ней мнение и теперь посматривал на нее не только с уважением, но и с восхищением. Как ни странно, то эта мертвенная бледность и отрешенность очень шла ей, придавала ее лицу какую-то внутреннюю одухотворенность.
Мы подошли к гостинице. Подымову явно не хотелось расставаться с нами, вернее в основном с нашей спутницей. Но она ничего не замечала, как-то безучастно пожала ему руку и направилась к дверям. Я последовал за ней, а ему ничего не оставалось делать, как ретироваться.
Мы остановились возле двери ее номера. Несколько секунд мы стояли неподвижно, затем она подняла голову и посмотрела на меня.
— Вы не зайдете, мне страшно оставаться одной, — вдруг сказала она.
— Конечно, я вас ни за что не оставлю одну.
Царегородцева кивнула головой и отперла дверь. Войдя в номер, она повалилась в кресло.
— Мне кажется, я никогда не забуду этот ужас, — проговорила она. — Я не думала, что люди так могут жить.
— Живут и похуже, — заметил я.
Она кивнула головой.
— Но ведь они же не нищенствуют, они работают на комбинате, — вдруг встрепенулась Царегородцева. — А мне ли не знать, какую прибыль он приносит. А им ничего не достается, вернее, достаются жалкие крохи. И при этом все деньги уходят в Москву, к ним. — Она спрятала лицо в ладонях. — Что же делать?
Я почувствовал волнение. Я и не предполагал, что эта красивая, холеная и далеко не бедная женщина так близко к сердцу примет жалкое положение этих людей. Мне вдруг очень захотелось поговорить с ней со всей откровенностью, поведать все о себе. Я было уже, как говорят, открыл рот, но вдруг остановился. А если это всего лишь кратковременный, как летний дождик, порыв. И к утру от него останутся лишь воспоминания. И тогда как она поступит, узнав все обо мне? Не так уж и хорошо я знаю эту женщину, многие ее поступки вызывают недоумение. Нет, это чересчур большой риск. В конце концов, что мне известно об истинной ее миссии на комбинате, вдруг ее послали для того, чтобы еще раз проверить меня. В том числе поймать и вот на таком или подобном трюке. По крайней мере, полной уверенности, что все это не так, у меня нет. И до тех пор, пока она не появится, лучше и безопасней всего хранить молчание. Оно спасло немало людей, а болтливость погубила многих.
— Что же нам делать? — повторила свой вопрос Царегородцева, не дождавшись моего ответа.
— Честно говоря, не знаю. А может, не стоит так уж переживать, в мире столь людей живут в плохих условиях, — бросил я пробный камень.
— И пускай живут. Я к ним не имею никакого отношения. Чем я им могу помочь? Но, как вы не понимаете, что тут совсем другой случай, это руководство нашего концерна, а следовательно и я, обрекает их на жалкое существование.
Она схватила сумочку и нервным движением, достав сигареты, закурила.
— В таком случае поставьте этот вопрос на правление, прибыли комбината хватает на то, чтобы существенно поднять зарплату его работникам.
Царегородцева с негодованием взглянула на меня.
— Вам ли не знать, что Фрадков никогда не пойдет на такой шаг. Да он скорей удушится, чем потеряет столько денег. — Царегородцва откинулась на спинку кресла. — Есть такое выражение: болит совесть, Мне всегда оно казалось немного надуманным. Но сейчас я чувствую, как она в самом деле болит. Неужели вы можете оставаться спокойным после всего увиденного?
— Я не спокоен, меня это тоже потрясло. Но, во-первых, я всегда стараюсь по возможности не показывать свои эмоции, а, во-вторых, я видел картины и похлеще. У нищеты, как и у богатства нет конечных точек. И в-третьих, я считаю, что прямо вины за все это нет ни у вас, ни у меня. В этом виноваты другие люди.
— Наверное, вы правы. Только от этого как-то не становится легче. Хочется по скорее заснуть, чтобы забылся бы этот кошмар. Вам не кажется, что мы все странно живем, не замечаем того, что делается вокруг нас. Вернее, замечаем только то, что не мешает нам наслаждаться жизнью.
— Это так, но не стоит доводить себя до несчастного состояния. Этим все равно никому не поможешь. Лучше принимать жизнь такой, какая она есть, во всех своих хороших и плохих проявлениях.
— Вы нашли для себя очень удобную позицию. Вы признаете виновность людей, но при этом не считаете их возможным ни в чем обвинять; ведь жизнь такая, какая есть. И другой нет и не будет. Я правильно вас поняла?
— По крайней мере, близко к истине.
Царегородцева на несколько мгновений о чем-то задумалась.
— А мне иногда казалось, что вы другой. Впрочем, я всегда знала про себя, что плохо разбираюсь в людях, слишком полагаюсь на поверхностные о них впечатления. Это, наверное, чисто женская черта. Извините, но я хочу лечь спать.
— Спокойной ночи. — Я встал и двинулся к двери. Внезапно я остановился. — А мне кажется, что вам стоит чаще доверять своим впечатлениям, — произнес я и вышел.
И сразу ж наткнулся на Семеняку, который стоял возле моего номера.
— А я вас с нетерпением жду! — воскликнул он.
Я открыл дверь и пропустил его вперед. Сменяка вбежал в номер и плюхнулся в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно, как статуя.
— Я выполнил вашу рекомендацию, Леонид Валерьевич, — вдруг выпалил он.
Теперь настала очередь молчать мне.
— Тем лучше, — произнес я.
— А что мне дальше делать?
— То же самое, что делали и раньше. Вы ничего н знаете, что произошло в редакции, киллер исчез, как привидение в замке и никому не известно, где он. Вот и вся ваша версия. А я в меру своей компетентности о происходящих тут событиях ее подтвержу.
— Если бы вы только знали, как я буду вам благодарен. — Неожиданно Семеняка извлек из кармана пухлый пакет и быстро протянул его мне. — От чистого сердца, — пробормотал он.
— Послушайте, — играя в негодование, произнес я, — за кого вы меня принимаете. Уберите или все наши договоренности я аннулирую.
— Я возьму, — поспешно проговорил Семеняка, — только умоляю. не отказывайтесь от своих обещаний. — Он, в самом деле, снова вернул пакет в свой карман. — У меня надежда только на вас.
— Я всегда делаю то, что обещаю.
— Я сразу понял, что вы необычный человек, как только вас увидел, — пробормотал Семеняка.
Мне стало смешно. Для него необычный человек тот, кто выполняет обещанное, кто не обманывает других. Далеко же мы пойдем с такими представлениями о жизни.
— Завтра утром мы уезжаем, — сказал я.
— Я буду вспоминать о вас с грустью, — заверил он.
— Спасибо. А как на счет машины?
— Об этом не беспокойтесь, она придет в точно указанный срок.
Дабы избавиться от Семеняки, я решил повторить прием Царегородцевой.
— Извините, но я хочу спать, Завтра рано вставать.
— О, я понимаю. И исчезаю. Позвольте лишь передать привет вам от моей супруги.
Семеняка встал и засеменил к выходу. У двери он выразительно посмотрел на меня и исчез из номера. Я же в самом деле решил, что лучше всего в этой ситуации — это лечь спать.