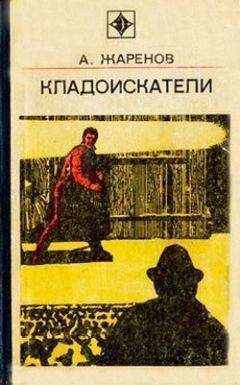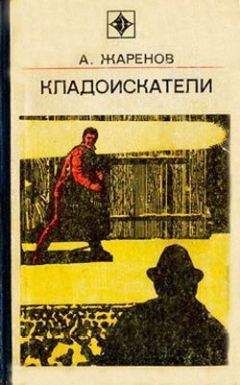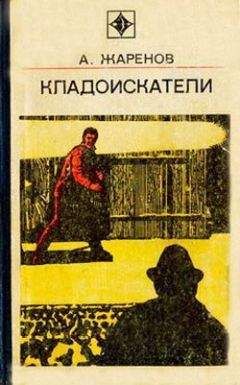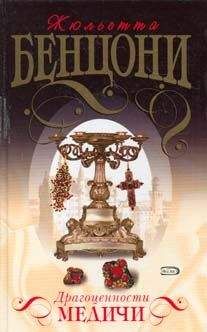Анатолий Жаренов - Кладоискатели
То, что загулял Витя с Римкой тайком от Вали, — это же так обыкновенно.
И Наумов изменял Лире Федоровне вполне обыкновенно.
А где же та точка отсчета, с которой начинается необыкновенное?
Дверной звонок дзенькнул, когда я, покончив со скромным ужином, ковырял спичкой в зубах, размышляя перед книжной полкой о том, что неплохо было бы сейчас почитать что-нибудь старинное, тягучее, с пространными диалогами; что-нибудь глупенькое — с картонными страстями, стыдливыми признаниями и рыцарскими поступками благородных героев.
Дзенькнул звонок. И был он какой-то неуверенный. Жена моя открывает дверь своим ключом. Знакомые жмут на кнопку так, что трезвон идет по всей квартире. А тут робкое трень — и молчок.
Двое ждали меня на площадке. Незнакомый мужчина и знакомая женщина. На мужчине была клетчатая рубашка, серые брюки и пыльные ботинки. Женщина жалась за его широкой спиной, но я тем не менее сразу вспомнил зеленое платье, в котором видел ее однажды. Впрочем, в другом платье, я ее и не видел никогда. Лаврухин встречался с ней чаще, а я больше думал о ней. Даже сегодня думал.
Мужчина улыбнулся мне и по-простецки сказал:
— Не хочет идти. Не хочет — и все. Ну, я и повел сам.
— Заходите.
Я открыл дверь пошире, и они зашли. Мужчина шагнул первым. Женщина неуверенно двинулась за ним.
На диван они сели рядышком. Он по-прежнему улыбался. Она как-то боязливо смотрела на меня. Мужчина легонько ткнул ее в бок и сказал ласково:
— Говори, Веруня, ну…
Он не называл ее Вероникой. И он часто употреблял междометие «ну». Может быть, от смущения. Я заметил, что чувствовал он себя неуверенно в непривычной обстановке. Улыбка была чуть растерянной. И глаза. Но глаза у него были честные, а лицо из тех, какие принято называть открытыми.
Он говорил, а Вероника Семеновна молчала. Он сообщил, что зовут его Григорием Андреевичем, что работает он на машиностроительном заводе мастером; что парнишка ихний учится в седьмом классе, а в этой школе работает моя жена, а парнишка как раз в ее классе; что по этой причине им известно и о моем существовании, да и не только по этой: Веруня вот сказала, что приходил я в музей, сказала только сегодня, сказала со слезами, и это Григория Андреевича сильно огорчило, потому что не знал он, что Веруню уже несколько раз допрашивали. Только сегодня узнал и сразу же решил идти ко мне. Они бы пошли в прокуратуру, но время позднее, никого там, наверное, нет, а дело у них важное, неотложное просто, но лучше пускай о нем сама Веруня доложит, ей сподручнее, так как он в ее работе несильно разбирается… Много он успел сказать, а Вероника Семеновна сидела словно воды в рот набрала.
— Говори, Веруня, ну…
— Никаких инвентаризаций у нас не было никогда, — сообщила она чуть слышно.
Для меня это не явилось новостью. О механике так называемых инвентаризаций нам рассказал Ребриков. Акты составлялись, но ни с чем не сопоставлялись. Комиссии назначались, но никто из членов даже не заглядывал в музей. Все было формалистикой в крайнем ее выражении. Как повелось когда-то, так и велось. И велось бы, не пропади случайно серая папочка, которую Ребриков в свое время не включил в опись, так как не до папочки было — выбивал тогда он финансы для постройки павильона краеведения.
Я смотрел на Веронику и думал, что чужая душа — потемки, и я никогда не пойму, почему Наумов предпочел ее Лире. Я бы на его месте не предпочел. Медно-мраморная Лира в лимонном платье и с глазами, подобными василькам в спелой ржи, и Вероника, хмурая Вероника, Веруня — гусыня, да простит мне это словцо ее муженек. Возможно, если скинуть с нее лет пятнадцать… Но ведь анонимки посыпались год назад. Что-то не так тут, неправильно что-то.
— Акты готовила я, — сказала Вероника Семеновна. — И виновата одна я.
— Эта ваша откровенность похвальна, — заметил я. — Но думаю, когда дело дойдет до распределения, вам все не достанется. Поделиться придется, Вероника Семеновна.
— Видишь, Веруня, что получается, — вмешался муж. — И я говорил… Ну… Ты же не одна. Товарищ Зыкин правильно рассуждает.
Вероника Семеновна приложила к глазам платочек. «Чувствительная ты больно», — подумал я сердито и сказал:
— Вы только за этим пришли?
— Нет, нет, — заторопился Григорий Андреевич. — За этим что ходить… Ты говори, Веруня, ну…
И Веруня заговорила. Всхлипывая, путаясь в словах, она заговорила о серой папочке. Она сказала, что видела эту папочку в последний раз уже после смерти Астахова. Это было важное показание. И Вероника Семеновна понимала, насколько оно важно. Оно свидетельствовало прежде всего против нее — недаром же она столько времени стойко утаивала от следствия то, что сейчас выложила мне. Оно, кроме того, если Вероника Семеновна говорила правду, бросало зловещую тень на сотрудников музея, начиная от директора и кончая сторожем. А если она лгала?.. Или ошибалась?
— Назовите дату, — сказал я строго. — И сообщите об обстоятельствах.
Она вдруг покраснела и сконфуженно поглядела на мужа. Он мягко положил руку ей на плечо и, хмыкнув, подмигнул мне:
— Ладно, чего уж там… Говори, Веруня, все говори, как есть, ну…
И она рассказала. В среду, 22 мая, у Григория Андреевича был день рождения. На вечер ждали гостей. Веруня ухлопала на подготовку к этому событию весь вторник. Этот день в музее выходной. Утром в среду супруги оглядели закуски и решили, что все в порядке, неплохо бы подбросить на стол соленых грибков. День был базарный, и Вероника Семеновна, отправляясь на работу, сунула в сумку литровую банку. А крышку забыла. Грибы были благополучно доставлены в музей. Банку Вероника Семеновна отнесла в запасник, поставила на окно и прикрыла серой папочкой, которую сняла с бамбуковой этажерки. Уходя домой, она кинула папку на прежнее место.
— Кто-нибудь может это подтвердить? — спросил я.
Супруги переглянулись.
— Никто, — сказала Вероника Семеновна. Она успокоилась немного, перестала плакать, только нервно комкала платочек.
Я посмотрел на нее внимательно и спросил без обиняков:
— Кого же вы подозреваете?
— Я… Я об этом не думала…
— Значит, двадцать второго мая папка лежала на этажерке, — сказал я. — Десятого июня ее там не было. Восемнадцать дней, Вероника Семеновна, так?
Она молча кивнула.
— Запасник в эти дни вы открывали?
— Нет.
— Ключ, естественно, всегда при вас?
— Да. В сумочке.
— А сумочка?
Она снова заплакала.
Она плакала, а муж улыбался. Мужу все это казалось пустячком. Эко дело, подумаешь. Ну, оставляла Вероника Семеновна сумочку на столе, бывало, и без присмотра. Так ведь свои люди рядом, сослуживцы. Ну акты там какие-то переписывала, не сверяя наименований с наличием. Так ведь маленький винтик Веруня-то. Посолиднев люди подмахивали эти самые акты не глядя. Следствие обманывала Веруня? Ну что же, это плохо, конечно, нельзя обманывать. Но осознала она это, сама пришла и все как есть рассказала. Повинную голову и меч не сечет. Понимай, товарищ Зыкин…
Ищи, Зыкин, начало того конца… Хочешь, поверь Веронике Семеновне, — проверь. Только вот беда — не поддается проверке вся эта история с серой папочкой. А показание важное, если Веруне поверить.
Я проводил их, потом позвонил Лаврухину.
— А ведь это хорошо, Зыкин, — сказал он, выслушав меня.
— Что именно, Павел Иванович?
— Да то, что ее муж приводил. Ты чувствуешь, откуда ветерок?
Я чувствовал.
Утром Лаврухин меня напутствовал:
— Ты постарайся поосторожнее, Зыкин. Все-таки старушка, то да се… Сбоку заходи, сбоку…
— Ладно, — сказал я. — Провожу от молочной до ядома, потом — к Дукину.
На улице было как на улице. Я влился в поток прохожих и, не торопясь, пошел к дому Казаковых. Я знал, что в эти минуты Тамара Михайловна отправляется в молочный магазин. Много я всего знал о людях, так или иначе втянутых в орбиту дела, об их привычках, об их ежедневных маршрутах, обо всем том, что укладывалось в понятие «обыкновенность». Обыкновенность текла, как река, широкая, тихая река с медленным течением. Река меня не интересовала. Меня занимали острова, разбросанные там и сям. Река обыкновенности, наталкиваясь на них, бурлила и пенилась, ее течение ускорялось, и я никак не успевал разглядеть, что же там такое было, на этих островах.
К молочному магазину мы с Тамарой Михайловной подошли почти одновременно, только с разных сторон. Сухонькая старушка в дымчатом платье шмыгнула, как мышка, в дверь, которая тяжело грохнула. Она грохнула еще раз двадцать, и я успел придумать не меньше трех способов ликвидации этого грохота, пока не увидел наконец снова Тамару Михайловну.
«Стариков надо жалеть, — думал я, догоняя Тамару Михайловну и отбирая у нее авоську с бутылками. — А тех, кому не повезло в жизни, особенно. И Лаврухин толковал о том же самом. Но толковать — одно дело. А вот в данном случае…»