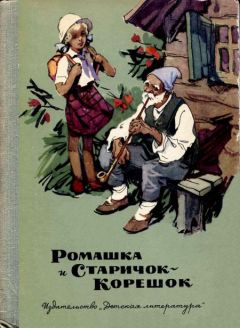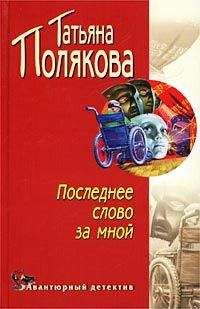Виктория Платова - Любовники в заснеженном саду
— Бывает. Я рад, что смог вам помочь.
Это была не вся правда. Большая ее часть, но не вся. Все дело заключалось в том, что Никите понравился этот железобетонный тип, эта ходячая энциклопедия жизненного успеха. Понравился до детского щенячьего восторга, до подросткового полуобморочного поклонения. Помочь такому человеку, подставить плечо в трудную минуту — из разряда фантазий перед сном. И вот, пожалуйста, — свершилось! Никита поймал себя на мысли, что ни разу за последние пятнадцать минут не вспомнил ни об Инге, ни о Никите-младшем, а ведь он думал о них постоянно. Думать о них было тяжелой изнурительной работой, сизифовым трудом, безнадежным и бесконечным, — и вдруг такая передышка! Целых пятнадцать минут блаженной пустоты — впору самому приплатить за это!
— Выпить хочешь? — неожиданно спросил мужик.
— Хочу, — вполне ожидаемо ответил Никита.
— Идем.
* * *…Как потом оказалось, это было приглашением в ближний круг Оки Kopaбeльникoffa. В самый ближний. Ближе не бывает. Вот только тогда, в январскую ночь, сидя на кухне у пивного барона, Никита Чиняков даже не подозревал об этом. Квартира Корабельникоffа — вернее, набросок, скелет квартиры — состояла из пяти пустых комнат, двух санузлов и кухни, в которой, при желании, можно было проводить товарищеские встречи по конному поло. На кухне, как и в комнатах, не было ничего, кроме бытовой техники гигантский холодильник, плита, микроволновка, стол, широкое кожаное кресло и одинокая табуретка. У стены стояло несколько картонных коробок с затейливым лейблом и непритязательной надписью «Корабельникоff Classic». Коробки оставили Никиту равнодушным. Да и заметил он их чуть позже, поначалу сосредоточив все внимание на хозяине квартиры. Даже в предательском свете нескольких стоваттных лампочек ничего не изменилось его новый знакомый так и не выскочил из благородной категории «около пятидесяти». В этом возрасте играют во взрослые игры, делают взрослые ставки и вершат судьбы мира — именно в этом, а не в куцем Никитином возрасте Христа. Ничего не изменилось, вот только загар показался Никите чуть темнее, рот — чуть жестче, а лоб — выше. Хотя куда уж выше!… Лоб скобкой обхватывали битые глубокой проседью густые черные волосы: очевидно, хозяин начал седеть еще в юности, так что никаких сожалений по этому поводу быть не должно. Да и ни по каким другим — тоже. Жизнь состоялась! Что бы там ни нашептывали две печальные складки у крыльев носа. А нашептывали они о потерях… Кой черт — потерях, к пятидесяти у каждого за спиной целая вереница потерь, философски рассуждая — всего лишь цена за возможность жить дальше. Когда-нибудь и ты сам станешь ценой, платой для других людей, — необязательные мысли об этом можно разгребать лопатой. Но ворочать черенок Никите не хотелось, ему хотелось выпить, может быть, даже напиться. С совершенно незнакомым ему и таким притягательным человеком.
Притягательный человек знакомиться не торопился. Он не спросил, как зовут Никиту, да и сам не представился.
— Водку будешь? — отрывисто спросил он.
— Буду…
Если бы Никите предложили денатурат, он бы все равно согласился. «Я думаю, это начало большой дружбы», — осторожно пульсировала в Никитиных висках последняя фраза из нежнейшей черно-белой «Касабланки». Все любимые фильмы Никиты были нежнейшими и черно-белыми… Его теперешний мир тоже был черно-белым, но никакой нежности в нем не было. Только отчаяние и боль. Теплая, как парное молоко, водка оказалась недорогой, но качественной, палка колбасы была искромсана кое-как, хлеб нарезан толстыми ломтями, огурцы выуживались прямо из банки — лучше не придумаешь! После первых стопок огромная кухня сузилась до размеров заплеванного купе поезда дальнего следования. И Никита сломался. Почти не сбиваясь и совсем не путаясь, он рассказал случайному человеку всю свою жизнь, и жизнь Инги, и жизнь Никиты-младшего. А потом — и всю свою смерть, и смерть Инги, и смерть Никиты-младшего. Незнакомец слушал сосредоточенно и молча и ни разу не перебил. И только вытаскивал из бездонного холодильника все новые и новые емкости с водкой.
В конце концов, случилось то, что и должно было случиться: Никита напился в хлам. Он не помнил, как отключился. Пришел в себя на диване в гостиной, заботливо укрытый пледом. В широких окнах маячил сумрачный январский день, а прямо на полу, возле аккуратно составленных ботинок, валялась визитка. Преодолевая сухость во рту и ломоту в затылке, Никита нагнулся, подхватил ее и принялся изучать.
Плотный ламинированный кусок картона содержал не так уж много полезной информации, что-то подобное Никита предполагал с самого начала. Но неизвестный, случайно открытый им материк приобрел реальные очертания и получил имя. Странное имя — Ока.
"ОКА КОРАБЕЛЬНИКОFF, — значилось в визитке, — ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОРАБЕЛЬНИКОFF».
Разноцветные этикетки Корабельникоffского пива заплясали в глазах — самое время опохмелиться! Но, прежде чем высунуться из-под пледа и спустить ноги на пол, Никита перевернул визитку.
«НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, 114. СЕГОДНЯ, 17.00».
Это было похоже на очередное распоряжение. Или… Может быть… «Я думаю, это начало большой дружбы»?… «Forse che si, forse che no». Кровь снова тихо заворочалась в Никитиных висках. Опохмелиться! И побыстрее!
Чувствуя себя мальчишкой в пустом родительском доме, Никита на цыпочках прокрался на кухню и залез в холодильник. Холодильник оказался под завязку забит водкой, пивом и баночными огурцами, а на краешке стола лежал ключ. На самом видном месте — не заметить его было невозможно. Следовательно, ключ предназначался именно ему, Никите. Монументальный Ока не стал будить его утром, чтобы за шкирку вытряхнуть непроспавшегося молодца за дверь, совсем напротив. Оставил постороннего человека в своей квартире, начиненной стереосистемами, плоскими телевизионными ящиками и прочими прелестями общества потребления. Удивительная беспечность, хотя… Если учесть, что сегодня ночью Никита отказался от платы за доставку дорогого во всех отношениях тела на Пятнадцатую линию, а еще раньше не соблазнился целой пачкой долларов… Хотя мог бы, мог. Уж слишком беспомощным выглядел Корабельникоff у подножия «Лэндровера», грех было не упасть до банального безнаказанного воровства. Но — не упал. Не нужно быть психологом, чтобы понять, что Никите можно доверить все, что угодно, он и булавки чужой не возьмет. А психологом Ока Корабельникоff был наверняка — не мог не быть, занимая такой пост. Не глядя махнув бутылку «Корабельникоff Classic» и сунув ключ в карман джинсов, Никита засобирался. В свою собственную «сраную жизнь», как называл его нынешнее существование друган Левитас. Дружба их тянулась еще из покрытых сиреневой дымкой школьных лет; они не расстались даже тогда, когда Никита поступил на мехмат университета, а Митенька, по причине врожденной математической тупости, — пополнил ментовские ряды. Беспривязно кочуя, он в конце концов оказался в убойном отделе, да так и завис там на должности опера.
Митенька Левитас был единственным человеком, с которым Никита поддерживал некое подобие отношений. Это было единственной уступкой безвозвратно ушедшей счастливой жизни; слабостью, замешанной на общем институтском прошлом, на общих девочках, общих выпивках и общей работе. Отказаться от Левитаса означало заколотить гроб окончательно. И Левитас всеми правдами и не правдами просачивался в узкую щель, куда всем остальным вход был заказан. Друзьям Никиты, друзьям Инги, их общим друзьям. Иезуитская инициатива, как и все другие иезуитские инициативы, исходила от Инги: в их ледяном аду не должно быть никого, — никого, кто может согреть словом, дыханием или просто сочувственным пожатием руки. Противостоять Инге было невозможно, — и все отступили. Не сразу, но отступили. И только Левитас продолжал долбить клювом в проклятую крышку их общего с Ингой гроба. Иногда ему даже удавалось вытащить Никиту в сауну на Крестовском, но чаще они встречались в «Алеше» на Большом проспекте — за традиционным «полкило» паленого махачкалинского коньяка.
— Бросай ты эту суку, — в очередной раз увещевал Левитас Никиту.
— Хороший совет, — в очередной раз грустно улыбался Никита.
Бросить Ингу! Нет, он никогда этого не сделает, никогда! Бросить Ингу означало бросить на произвол судьбы маленького мертвого мальчика, сына, — оставить его лежать под открытым небом, пока вороны времени не выклюют ему глаза. Бросить Ингу было невозможно.
— Ну нет так нет, — в очередной раз соглашался Левитас. — Тогда по-быстрому допиваем коньячишко и возвращайся в свою сраную жизнь.
— Куда ж я денусь!…
— Ну, блин… Нет ума — строй дома…
«Нет ума — строй дома» — знаменитая Митенькина присказка. После нее следовал монолог о смерти, к которой Левитас, как сотрудник убойного, относился достаточно цинично.