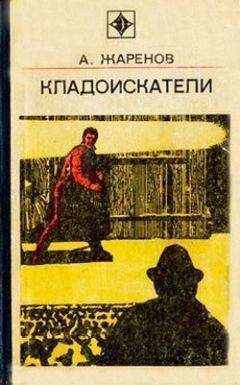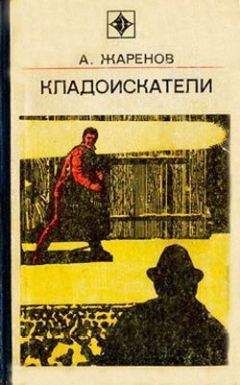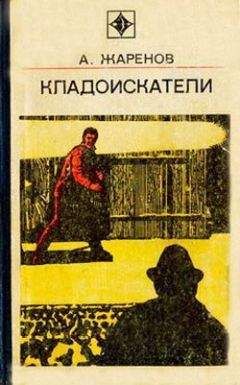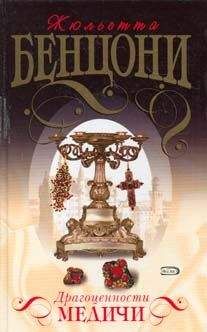Анатолий Жаренов - Кладоискатели
Я засмеялся.
— Наверное, сходил бы к К. В этой записи довольно много информации.
— И она толкуется однозначно, не правда ли?
— Пожалуй, — согласился я, всматриваясь в косые буквы на песке. — Впрочем, если учесть то, что мне известно про Бакуева…
— Вы допускаете иные толкования?
— Кто знает? — пожал я плечами. И равнодушно выслушал рассказ Наумова о том, как он, изучив списки личного состава театра по состоянию на пятьдесят седьмой год, нашел в этих списках пять актеров, чьи анкетные данные соответствовали данным, на которые указывала запись в дневнике Бакуева, и в их числе актера Казакова, 1905 года рождения; как отправился к нему на квартиру, чтобы поговорить с ним о портрете княгини, и как ушел не солоно хлебавши, потому что Федор Казаков был Федором Казаковым и, может, не совсем последовательно, но весьма доходчиво разъяснил незадачливому искателю, что он, Казаков, не имел чести быть знакомым ни с княгиней Улусовой, ни с загадочным «А. В.». А о каком-то там Бакуеве я слыхом не слыхал. Казаков и тогда любил «выступать». Ошеломленный доцент спасся бегством, оставив на поле сражения новую велюровую шляпу, о которой вспомнил лишь на лестнице. Он потоптался на площадке первого этажа в раздумье, потом махнул рукой и вышел на улицу.
Шляпу принесла на другой день в институт Лирочка-Велирочка и ближе к вечеру вышла на дорожку, по которой доцент Наумов хаживал ежедневно после занятий. Наумову эта дорожка не нравилась, хоть и вилась она между стройными тополями и была во всех отношениях удобной дорожкой; не нравилась потому, что ходил Наумов по ней на частную квартиру, которая, если разобраться, и не квартирой была, а просто «углом». Вот на этой дорожке и встретила доцента Лирочка-Велирочка, встретила и остановила, а затем медленным Движением бережно вынула шляпу из сумки, произнеся при этом какие-то слова, которые доцент забыл, но, вероятно, это были щучьи слова, те самые — «по моему велению, по моему хотению», — ибо после этих слов Наумов тоже произнес какие-то слова, среди которых было и «спасибо», но не оно было главным, оно не ставило точку под диалогом, а в том, что диалог начался, Наумов уже не сомневался. Не сомневалась и Лирочка…
Очень не хотелось Лирочке ехать в деревенскую школу.
А доцент в шестьдесят четвертом году был скорее худым, чем толстым. В общем, он выглядел не хуже других, хоть и не гнался за модой и был с «бзиком», поскольку тратил свой досуг на копание в каких-то там архивах. Но в тот теплый апрельский вечер он забыл о тайне столетий, ибо другая тайна властно поманила его, вечная тайна, нетайная тайна, которая лучилась из глаз Лирочки-Велирочки, умненькой студентки-выпускницы, хорошенькой девушки, интересной даже, что и не преминул отметить доцент после двухчасовой совместной прогулки.
В конце недели Лирочка-Велирочка решила, что момент наступил, и, осторожно высвободившись из объятий доцента, сказала: «Мы могли бы пожить и у нас».
И была свадьба, которую сыграли в новеньком еще тогда кафе «Космос». Свадьба как свадьба, со всеми положенными процедурами, из которых Наумову почему-то запомнилась наиболее утомительная — ожидание торжественного ужина, — когда они с Лирочкой стояли у стеклянных дверей, встречая гостей. Скучные это были часы, скучные не только для Наумова. Снаружи толпилась стайка юнцов, которые приходились кому-то родственниками, но кому, было неизвестно ни жениху, ни невесте. Юнцы сосредоточенно курили, подчеркнуто не обращая внимания друг на друга. Внутри, возле длинных столов, заставленных снедью, цветами и бутылками, бродили приглашенные мужчины постарше, из тех, кто пришел точно к назначенному часу. Их жены чинно сидели на стульях, поставленных рядком у стойки, и шептались о чем-то, поглядывая на жениха и невесту, похожих на манекены, какие можно увидеть в витринах салонов для новобрачных.
Три часа этой витринной жизни были платой за поцелуи над сонным озером, за апрельские звезды, за теплые руки любимой, за то, что было, и за то, что должно быть впереди.
А впереди Наумова поджидало нечто непонятное.
Утром, перед тем как отправиться к Лаврухину, который сказал, что будет занят до двенадцати, я решил зайти к Бурмистрову. Я не видел его уже несколько дней и, захватив портрет, поехал в управление, рассудив, что мой начальник как раз тот человек, который отнесется ко мне и моим затруднениям с должным пониманием. В этом смысле с ним мог сравниться разве только Петя Саватеев, но он, к счастью, не встретился мне ни в коридоре, ни в нашем с ним кабинете, куда я забежал, чтобы пополнить запас сигарет.
Я поставил портрет перед Бурмистровым и заметил вскользь, что лицо на портрете мне кого-то напоминает.
— Неплохо было бы и вспомнить, — ворчливо произнес мой шеф, погремев стаканчиком с карандашами.
— Стараюсь, — сказал я, усаживаясь у окна. Я и в самом деле старался, но ничего из этого не выходило. Так бывает, когда вдруг забываешь какое-нибудь слово. Ты чувствуешь его, оно где-то близко, вот-вот ты его вспомнишь, но оно не дается, ускользает. Ты злишься, напрягаешь память — и добиваешься противоположного результата. Потом, когда оно тебе уже не нужно, это слово неожиданно всплывает на поверхность сознания.
— Ну-ну. — Бурмистров отвел глаза от портрета, откинулся в кресле и сцепил руки на животе. — Так что там у тебя?
Я вкратце изложил повесть о знакомстве доцента с Лирочкой.
— Попался мужичок на крючок, — усмехнулся Бурмистров.
— А вот это не совсем так, — возразил я.
— То есть? — прищурился Бурмистров. — В твоей интерпретации все именно так и звучит.
— Значит, фальшиво звучит, — сказал я. — Есть нюансы.
— Ты давай, Зыкин, все-таки поаккуратней насчет нюансов. Ближе к фактам.
— К ним и двигаюсь. Была у них любовь. Обоюдная, так сказать. Конкретнее если, то Лирочке этот доцент тоже нравился. Может, сперва она и воображала себя жертвой обстоятельств, может, даже лукавила, но все это ушло.
— Чаруса, — буркнул Бурмистров. — Знаешь, что это?
— Наслышан.
— Зачем же лезешь?
— Затягивает, проклятая, — признался я со вздохом.
— Ну ладно, Зыкин, — сказал Бурмистров, бросив выразительный взгляд на часы. — Ты ведь не про любовь рассказывать ко мне пришел.
— Как знать. По Наумову выходит, что его занятия княгиниными делами и Лирочкина любовь связаны одной веревочкой.
Произнеся эту неуклюжую фразу, я углубился в созерцание знакомого заоконного пейзажа. Бурмистров сидел полузакрыв глаза и покусывал губы. Наконец он спросил:
— А ты как считаешь?
— Надо подумать.
— Ну что ж, попробуем.
— Про любовь не упоминать?
— Воздержись по возможности.
— Значит, так, — сказал я. — После свадьбы Наумов перетащил свои пожитки к Казаковым. Родители не препятствовали, пожалуй, даже были рады, что дочка обрела приличного мужа и осталась у них под крылышком. Молодоженам выделили комнату. Вскоре Лирочка закончила институт, но в городских школах ей места не нашлось. На помощь пришел Ребриков, и Лирочка стала работать в музее. В шестьдесят пятом Ребрикова сменил Сикорский. В музее все осталось статус-кво. Лирочка, разумеется, тоже. И тут завязался узелок. Если коротко, то так: по непроверенным данным любовь Сикорского к Лирочке последствий не имела.
— В каком смысле?
— В том, что она его не любила.
— Так. Едем дальше.
— Что ж дальше. Все шло и дальше тихо-мирно, благопристойно. Наумов работал в институте, продолжал копаться в архивах. Все шло тихо-мирно, пока однажды Лирочка не заявила мужу: или княгиня, или она.
— Когда заявила?
— Незадолго до семейного скандала. Наумов как раз выбился на второй круг гонки за неизвестным художником. Короче говоря, он вернулся к тому, с чего начинал — к бакуевским бумагам, к той самой записи: «Сход. к К.». Он носился с этой шарадой как курица с яйцом и не замечал, что атмосфера в доме накаляется. Он заметил это, когда стало уже нечем дышать.
— Ну-ну, — подбодрил меня Бурмистров.
— Он пожелал объясниться с Лирочкиными родителями, — сказал я. — Но объяснения не получилось. Теща молча покинула комнату. Тесть, по обыкновению, прокричал отрывок из какой-то пьесы, а Лирочка… Нет, все-таки любовь была.
— Вычеркни ее пока… Ближе к фактам.
— Факты иссякли, — сказал я. — Остались эмоции. Наумов стал замечать, что сотрудники музея при встречах с ним как-то странно ухмыляются… А Лирочка плакала по ночам и говорила, что им надо уехать, уехать, уехать…
— Но уехал он…
— Да, — сказал я. — Уехал он. Договорились, что Лирочка двинется вслед, как только он устроится. В Караганде, кстати, живут его родители.
— Были письма? — спросил Бурмистров.
— Два или три. Лирочка писала, что готовится к отъезду. Но…