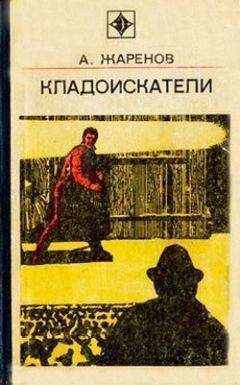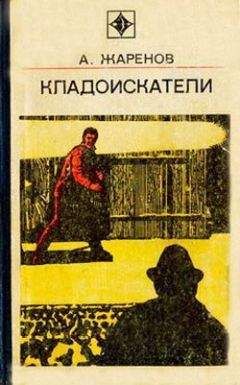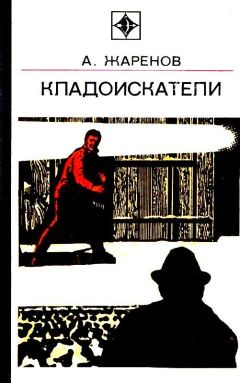Анатолий Жаренов - Фамильная реликвия
Утром во вторник он убежал с совещания – не сиделось, хотелось самому сообщить Вите о смерти Астахова и сказать, чтобы тот не пугался. Альбом и болт он держал при себе, в портфеле.
Он пришел к Вите. Было десять часов. Валя Цыбина только что ушла. Витя уже знал все об Астахове, Витя трусил и скулил. Сикорский вынул из портфеля альбом и, положив его на столик, стал успокаивать парня. Он говорил о том, что милиции ни за что не добраться до клада и до Вити, что у Астахова не осталось ничего, что бы могло навести на след; он говорил, а Витя смотрел сквозь застекленную стену веранды в сад и повторял, как попугай, одну и ту же фразу: «Надо же так». И увидел меня…
Сикорский подхватил портфель и спрятался за дверью.
Он задохнулся от ярости, сообразив, что парень вот-вот проболтается.
В портфеле лежал болт в чехольчике.
И когда я шагнул к альбому, этот болт опустился на мою голову.
Витя закричал и повис на Сикорском.
Они покатились с веранды внутрь дома. И там Сикорский, оторвав от себя парня, измолотил его до смерти. А в дом вбежала девушка. Сикорский был страшен в эту минуту.
Он пошел на девушку, намереваясь прикончить и ее, но вдруг остановился. Девушка тихонько смеялась. Он посмотрел ей в глаза – и понял. Затем он взглянул на часы. В одиннадцать ему должны были вручить почетную грамоту.
Алиби!
Он сунул болт в портфель, бросил туда же альбом и ушел через сад. Брактеат остался в кармане Витиных джинсов.
Девушка смотрела вслед убийце и смеялась.
Потом она убежала…
Ни в день убийства, ни через неделю Сикорскому не приходило в голову, что они наткнулись на княгинину коллекцию. Некогда ему было задумываться об этом. Лира не откликнулась на телеграмму, не явилась на похороны Астахова. Он не понимал, почему. Он позвонил Вале, он не боялся, что она узнает его по голосу, – Валя никогда не разговаривала с Сикорским, слышала о нем только от Лиры. Он задал ей вопрос про альбом. Валя ничего не сказала, повесила трубку. Это его насторожило. Он навел справки о той девушке, она лежала в больнице. С этой стороны опасаться было нечего. Но в руки следствия попал брактеат. Сикорский струхнул. Этот след мог привести нас к дому Дукина. Он еще не знал, что Дукин уже обнаружен нами. Он пошел на улицу 8 Марта. И увидел, как я входил в павильон. Это уже была прямая опасность – он не имел понятия, о чем говорил Астахов с Дукиным. А тут еще Лира Федоровна прислала заявление об увольнении. Это было странно и необъяснимо.
Я заговорил с ним о Бакуеве. Это тоже показалось ему странным. И, рассказывая мне о незадачливом искателе, Сикорский вдруг что-то заподозрил.
Портрет княгини хранился в запаснике.
Посвящать в свои дела Веронику Семеновну было нельзя.
В его сейфе еще со времен Ребрикова лежали какие-то ключи.
Один из них подошел к двери запасника. Все остальное проделать было легко.
На портрете княгини стояли инициалы «А. В.». Сикорский пришел в ужас. Повинуясь первому побуждению, он сколупнул краску с уголка портрета. Бакуевскую папку он взял с собой.
Но была еще жестянка на стене дома Дукина.
Он решил уничтожить и этот след. На улицу имени 8 Марта он пришел в тот час, когда я уходил от Вали Цыбиной. Он сорвал жестянку с вензелем и бросил ее в яму на пустыре.
Он не следил за мной. Просто наши дорожки пересеклись в тот вечер.
Потом они стали пересекаться все чаще.
«Мне не надо было брать эту проклятую папку, – писал он. – Но я хотел окончательно убедиться, что мы нарвались на княгинин клад. Я убедился в этом. Я стал понимать, что вы, Зыкин, приглядываетесь ко мне. Вторая моя ошибка – возврат папки на место. Мне казалось, что я обеляю себя. Когда же я увидел вас, стоящим в раздумье у церковной ограды, я сообразил, что переиграл. Я всегда опаздывал, Зыкин. Я опоздал убить вас. И, пожалуй, только об этом и жалею. Теперь вы стоите перед моим трупом. Смотрите на него, любуйтесь…»
– Вот сволочь, – пробормотал Лаврухин, бросая письмо на стол.
– Кто бы мог подумать…
Сикорский повесился в кухне на веревке, укрепленной на газовой трубе.
На столе стояли две бутылки из-под водки. Бурмистров листал альбом, Петя Саватеев вертел в руках болт, пытаясь умозрительно постичь его назначение.
– Мне не следовало заговаривать с ним о письмах, – сказал я.
– Чушь все это, Зыкин, – возразил Лаврухин. – Он вон еще когда понял, что влип. На него твоя физиономия действовала.
– А где письмо Карониной? – спросил Лаврухин.
– Потеряли, наверное, – откликнулся Бурмистров. – Астахов этот был безалаберным субъектом. Ну что же, будем клад изымать?
Через два дня Наумов уезжал домой.
– Почему вы обрадовались, когда услышали о пропаже бакуевских бумаг? – спросил я.
Он смутился, потом признался, что просто ему было приятно видеть мрачную физиономию Сикорского. Наумов сказал, что этот человек всегда был ему антипатичен. И Лире тоже. Что-то в нем не нравилось им, но что, они не понимали.
– Лучше поздно, чем никогда, – сказал я. – И все-таки мне надо было задать этот вопрос тогда же.
– Тогда я вам на него ответил бы иначе.
Вот так. Если бы Валя Цыбина в день нашей первой встречи назвала имя Вити Лютикова, то он сейчас был бы жив. Она не захотела. Что же, я ей тоже ничего не скажу. Я не скажу о картине, которая висит у нее над кроватью, я не скажу, почему убили Витю. Возможно, она обо всем догадывается… А может быть, я ошибаюсь. Но ей я ничего не скажу.
Перед самым отъездом Наумова мы зашли с ним в музей, чтобы еще раз взглянуть на фрески. Клад был извлечен. Коллекцию луноликих красавиц с газелями, печальные глаза которых напоминали глаза княгини Улусовой, Алеша Васильев замуровал в основание печного борова. Тайник был устроен капитально и хитроумно. Нужно было снять верхнюю вьюшку, затем разобрать часть кладки внутри борова. Под кирпичами лежала железная плита с отверстием посредине. В это отверстие завинчивался болт и превращался в своеобразную ручку. Плиту таким образом было легко поднять, и под ней открывался тайник. И красавицы и газели хорошо сохранились. Но меня они не волновали, мне почему-то неприятно было смотреть на них. От этих красавиц пахло кровью, страданиями и еще черт знает чем, как иногда говаривает Лаврухин.
Каждая картинка была обернута в бумагу. Листки были исписаны. Чернила выцвели, бумага пожелтела. Но Наумов сразу узнал почерк Алеши Васильева. Судя по всему, это были листки из его дневника. У Наумова зародилась надежда обнаружить в этих записях хоть какие-нибудь указания на то, где искать имя гениального художника-самоучки, жившего в восемнадцатом веке.