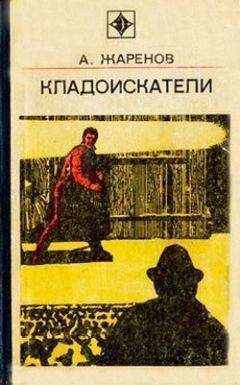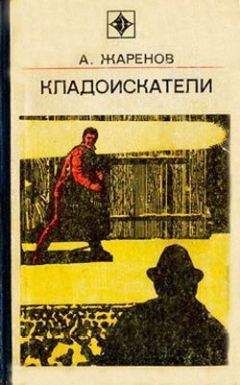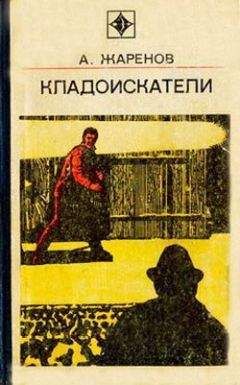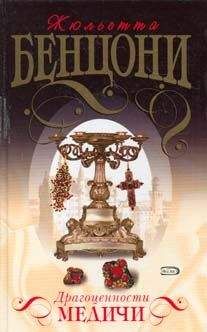Анатолий Жаренов - Кладоискатели
— Нынешняя баба, друг, теперь как, — болтал между тем лысый. — Теперь она в машину влезть норовит. Первое дело это для нее… Я вот помню… моя бывшая все телевизор оглаживала. Подберется к нему и этак ручкой, ручкой. Как мужика гладила — честное пионерское. И в глазах у нее, понимаешь, выражение особое застывало. Не мог я на это спокойно смотреть. Равнодушия к этому у меня нет, как у некоторых… Однако терпел. Пока она, значит, с телевизором обнималась, терпел. Понимаешь? А потом сосед мой Васька «Москвича» купил. Ну и ушел я, не выдержал. Потому что вижу: как утро, так она к забору и «Москвича» этого глазами гладит… Я и сказал: «Гладь, — говорю, — стерва. На зарплату свою фельдшерскую тебе его не иметь. Соблазняй, — говорю, — Ваську, ежели сможешь». Только куда ей, стать не та. Понимаешь? А у этой не так, ну, у той, которая с Колькой-покойником; у той, понимаешь, все на месте и ничего не трясется. И личико свеженькое… Да только все равно дурак он…
Он называл Астахова фамильярно Колькой-покойником. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Меня он стал величать другом с первой минуты знакомства и сразу же перешел на «ты». Он и с Папой Римским повел бы себя точно так же, этот ханыга с выцветшими голубыми глазами, и Папе Римскому он стал бы рассказывать о том, как ушел от жены, как бросил работу, как прибился к пивному павильону, стал бы жаловаться на «обстоятельства жизни», плакаться в жилетку и искать виноватых и трепаться, трепаться, трепаться…
И все-таки что-то соединяло его с Астаховым. В протоколах об этом говорилось скупо и невнятно. Ничего почти не говорилось в протоколах — не было в них сперва ни фамилии лысого, ни имени, ни прозвища. Были лишь глухие упоминания о том, что за неделю до смерти приходил к Астахову не то бывший портной, не то сапожник, что видели его будто бы и в день смерти Астахова: толкался он среди любопытных во дворе, а как услышал о том, что отравился газом художник, только его и видели. Когда Лаврухин вплотную заинтересовался этим «не то сапожником, не то портным», выяснилось, что фамилия его Дукин. И оказался он не сапожником, не портным, а спившимся столяром-краснодеревщиком, которому, как мне удалось выяснить после четвертой кружки пива, Астахов заказал раму для какого-то своего высокохудожественного панно. Дукин заказ выполнил, но Астахов почему-то забирать раму не спешил. Тогда мастер пошел к Астахову сам. Это было за неделю до смерти художника.
— Громоздкая рама-то, понимаешь, — говорил он. — Два на полтора. Да и пятнадцать целковых тоже деньги. А рама у мамаши жилплощадь загородила. Я ведь от Верки к мамаше ушел, свой домик у нее, еда какая-никакая, мамаша, одним словом. И с этой стороны, я тебе, друг, скажу, я женщину уважаю. Как мать, понимаешь?
Его опять повело не туда, и я внес предложение выпить еще по кружечке.
— Это можно, — сказал лысый, оживляясь. — Это, друг, завсегда можно.
Я дал ему рубль, и Дукин отправился к стойке. Ходил он долго: в павильон набежал народ. А когда вернулся, я спросил осторожно:
— Значит, говоришь, из-за бабы он?
Дукин одним большим глотком выдул пол кружки, чмокнул с присвистом и бросил отрывисто:
— Ну… О чем речь…
И снова припал к кружке. Потом начал рассказывать, как он ладил раму, как Астахов прибегал к нему справляться о ходе работы, как совался под руку с рулеткой, потому что казалось ему, что Дукин малую ошибку в измерениях допустил. Он говорил, а я слушал и не слушал, потому что именно в этот момент как-то остро ощутил, что мы с Дукиным стали объектом чьего-то пристального внимания. Такое чувство появляется, когда тебе долго смотрят в спину. И хоть умные люди говорят, что все это чепуха, я расхожусь во мнении с умными людьми. Я видал однажды, как забеспокоился поросенок, когда почувствовал, что его собираются резать. Правда, со мной совсем недавно произошло нечто другое: в Витиной мастерской я не ощутил присутствия незнакомца и схлопотал из-за этого удар по голове. Но, может быть, мое шестое чувство обострилось после этого удара, кто его знает, только я вдруг понял, что за нами в павильоне кто-то наблюдает. Дукин толковал о том, как не пришел в один прекрасный день к нему художник, не пришел и на второй, и на третий, а Дукин уже сладил раму и жаждал получить поскорее свои пятнадцать целкашей. Дукин толковал, как он пошел проведать заказчика, а я вертел головой, разглядывал посетителей пивного павильона, пытаясь сообразить, кто же это интересуется нами; но напрасно вертел я головой — все мужички были заняты пивом, и не было среди них ни моих знакомых по уголовному розыску, ни каких-либо подозрительных демонических личностей.
Пока я разбирался в своих ощущениях, Дукин уже добрался в неторопливом рассказе до дома, в котором жил Астахов, спросил у соседей номер квартиры и остановился перед дверью. Надавил кнопку — не задребезжал звонок. Хотел постучать легонько, а дверь сама подалась, распахнулась, словно приглашая войти. Но он не вошел, задержался на пороге.
— Разговор, понимаешь, уж больно веселый у них шел. Она ему, слышу, тарантит: «Ухожу», — говорит. А он ей: «Погоди, Лирочка, все будет как ты хочешь». А она вроде уже ничего не хочет, тютелька в тютельку, как Верка моя бывшая: говорит — не хочу, а сама глазищи уставит, и все нутро ейное через этот взгляд наружу выворачивается. Осьминог какой-то, а не баба, честное пионерское. И эта таким же макаром, значит. А я ее еще в глаза не видел, голос только слышу — ну прямо Веркин голос, когда Верка меня жить учила. Слушаю я ее голос, не Веркин, а той, ну, которая уходить собралась, стою, понимаешь, и думаю: «Все вы, — думаю, — на одну стать». Думаю, а самому интересно. Про раму даже забыл и пятнадцать целкашей, которые получить хотел, тоже из головы выскочили. Родным, понимаешь, повеяло, наболевшим. Они, значит, беседуют, а я стою как тень, порог переступить не хочу, потому что интересно. Разве думал я тогда, что беседа ихняя таким концом повернется. Колька-художник мне крепче казался, веселее, а тут на тебе…
Он пожевал губами, покосился на пустую кружку.
— Да, таким вот макаром. Мы с тобой тут вот пивком прохлаждаемся, а Колька в раю с Бога портрет рисует. Их беседу я тогда не дослушал. Не по себе как-то стало, дверь тихонько прикрыл, постучал как положено и в квартиру зашел. Они вокруг стола стоят. Бабенка книжку какую-то черную в руках вертит и злой бедой на художника глядит. А он ну ровно джейран малахольный: морда в тоске, того и гляди на колени бросится. На меня посмотрел как на пустое место. «Тебе чего надо, Дукин?» — спросил. Я говорю: «Присылай машину за рамой, готова рама». А бабенка книжку швырнула и глядит. С него на меня, с меня на него. Ждет, значит. Он говорит: «Ладно, Дукин, иди погуляй пока, в субботу заберу заказ». Ну и не забрал. Я субботу подождал, воскресенье подождал, а в понедельник опять к нему поперся. Приезжаю — перед крыльцом толпа, на крыльце мильтон, как на трибуне, объясняет, значит, чтобы граждане расходились…
Он задумчиво пощелкал желтым ногтем по краю кружки, но я сделал вид, что намека не понял. Пора было закрывать кредит Дукину, а самого его передавать, как эстафету, Лаврухину, потому что наступило время задавать ему вопросы. Но все «как», «что» и «почему» лежали вне компетенции страхового агента, каковым я был для Дукина, а час кончать маскарад еще не пробил. Я оставил мужика в павильоне размышлять над пустой кружкой в ожидании нового кредитоспособного собеседника, а сам пошел составлять вопросник для Лаврухина.
На Заозерск между тем опускался вечер, теплый летний вечер с музыкой в парке над озером и другими вечерними городскими удовольствиями. Вечер настраивал на лирический лад, и, может быть, поэтому мне впервые пришло в голову, что в деле, которым мы занимаемся, любовь играет далеко не последнюю роль. А может, на эту мысль натолкнула меня афиша кинотеатра «Спутник», приглашавшая горожан на односерийную «Только любовь». По моим наблюдениям, несчастная любовь обычно растягивается на две серии, счастливая укладывается в одну. Значит, эта «Только любовь» была счастливой.
И Дукин плел про любовь. Про несчастную любовь. Но Дукин видел только кусок одной серии, поэтому Дукину нельзя было верить на слово. Он не врал, Дукин. И все-таки то, что он услышал, стоя в дверях астаховской квартиры, можно было толковать по-разному. Напутал что-то спьяну лысый Дукин. Не был Астахов «малахольным джейраном», совсем другим человеком рисовался он нам по материалам дела, и никто из нас не считал его способным на такой поступок, как самоубийство по причине несчастной любви.
Что-то тут было не так, не вязалось что-то, не сходилось, не складывалось.
Не вязалось, не сходилось, не складывалось…
Я повертел в руках тетрадочный листок в косую клеточку и снова уставился в разбегающиеся фиолетовые строчки. Лира Федоровна Наумова писала:
«Уважаемый Максим Петрович! Я хочу сказать Вам, что решила уволиться из музея и навсегда покинуть Заозерск. Думала я об этом давно, но никогда Вам не говорила. Может быть, потому, что Вы всегда хорошо ко мне относились. Вы поймете меня. Я думаю, что так лучше. Извините и прощайте. Заявление об увольнении прилагаю.