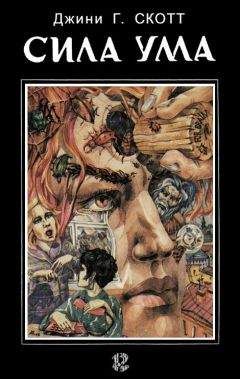Станислав Родионов - Долгое дело
В дверь постучали не постучали, а вроде бы сначала тёрли кулаком по дереву, а потом всё-таки стукнули. Две старушки — те, хозяйки котика Василия Васильевича, — входили в кабинет какой-то вереницей.
— Я потом зайду, — Кашина будто не из кресла встала, а оно, старое и глубокое, выпустило её из своей середины, как вылущило.
— Бабуси, хотите поблагодарить? — спросил инспектор, который успел побывать у Рябининых и отнести кота этим старушкам.
— Нет, милый, не хотим, — ответила худенькая и села в кресло, как провалилась в яму.
— Милиция, а допускает, — туманно поддержала её вторая, та самая, которой он тогда мысленно надевал чепчик.
Видимо, разговор предстоял длинный и нудный, а он сидел как на иголках, ожидая звонка от Рябинина. Зря не купил вторую коробку мармелада, которая сейчас бы помогла.
— Что-то я вас, гражданки, не понимаю…
— Котик не наш, — почти злорадно выговорила худая, как он вспомнил, Мария.
— Как не ваш?
— А так. Не кот, а дьявол из трубы.
— Как пошёл выть да обои когтями полосовать, так у меня аж брови дыбом встали, — поддержала Марию вторая.
Инспектор попробовал отыскать на её круглом лице брови, но увидел лишь две светлые полоски.
— Подождите-подождите. Вы же сказали, что кот полосатый, с хвостом…
— Что ж, по-твоему, мы евойной морды не отличим? — удивилась Мария.
— И характер-то у него обормотистый…
— Совести у тебя нет, хоть ты и сидишь в отдельной комнате.
— Ах, совести? Тогда сейчас проверим, бабуси, вашу совесть.
— Как это? — спросила Мария, слегка понижая голос.
Вторая насторожённо обернулась к сейфу.
— Вы со мной говорите на повышенных тонах, а я буду с вами говорить на возвышенные темы.
— Это конечно, — подозрительно согласилась Мария.
— Ваш сосед Литровник продал кота неизвестному гражданину за рубль. Можно в миллионном городе отыскать этого покупателя?
— Можно, — мгновенно согласилась Мария. — Овчарку запустить.
— А собака завсегда кошку отыщет, — подтвердила вторая, благодушно улыбнувшись инспектору, которому сумела помочь дельным советом.
Петельников ногами зацепил ножки стульев, как обвил их, — пожалуй, мармелад не помешал бы ему для умиротворения той злости, которая уже зарождалась.
— Собака берёт след преступника, а не кота.
— Наш Василий, Васильевич пускай сгинет? — спросила Мария, въедаясь в него своими чёрными запавшими глазами.
— Если человек рубля не пожалел, то уж он наверняка любит кошек. И вашего Василия будет обхаживать.
— А на кой нам чужой-то обормот? — Теперь дородная старушка улыбнулась хитровато, потому что сумела задать ему каверзный вопрос.
— Гражданки, вы в бога верите? — разозлился Петельников.
— Вон Шора с ним знается. — Мария кивнула на свою подругу.
— Ничего не знаюсь!
— Как увидит дом до неба, так и перекрестится.
— Если ваш кот попал в хорошие руки… Неужели вам не жалко другого кота, который сидит в подвале, не ест, не пьёт, не моется?.. Где же ваша любовь к животным?
Старушки вдруг насупились, словно он их оскорбил. Мария принялась поправлять кофту, а у пухленькой Нюры неожиданно развязался платок и никак не хотел завязываться.
— Да знаете ли вы, товарищи бабушки, что в Нью-Йорке двести тысяч бездомных кошек?
— А нам с тобой лясы точить некогда, — заявила Мария, вывалившись из своей пещерки.
— Коту-обормоту подошла пора обедать, — разъяснила Нюра, завязав-таки платок.
Инспектор улыбнулся. А Рябинин всё не звонил…
Из дневника следователя.
Видимо, я опустился до примитива — с трудом делаю работу, которая не доставляет мне удовольствия. А может, я поднялся до человека будущего — с трудом делаю работу, которая не доставляет удовольствия.
В тот день, когда Лида якобы обожглась и порезалась… Вернее, после того дня, когда она вскрикнула на кухне, Рябинин напряг все свои мозговые клетки и всё-таки вспомнил, что же тогда промелькнуло, исчезая; вспомнил не мысль, уложенную во фразу, а лишь её смысл. И отшатнулся, если только можно отшатнуться от выуженных из памяти двух слов — любовь и ненависть. Лида, любовь и ненависть… Но как ни напрягался, он так и не смог разгадать её вскриков на кухне, хотя чувствовал, что всё это лежит на линии тех двух слов, добытых им из своей памяти. И может быть, напрасно добытых, потому что переменчивость её настроения могла лечь на его фантазию, создав тот причудливый вечер. Так уже когда-то бывало. И проходило…
Рябинин открыл дверь, вошёл и хотел, как всегда, бросить портфель в кресло. Но что-то необычное, вроде бы растворённое в воздухе, заставило опустить портфель бережно, как налитый молоком. Он огляделся.
В передней ничего не переменилось. Переменилось… Нет запаха чая. Не пахнет ни тушёным мясом, ни свежими огурцами… Не пахнет ужином. Но чем? Духами. Всю квартиру заполнил жеманный запах каких-то восточных духов, где аромат цветов перемешался с настоем коры, гвоздики и вроде бы даже цитрусовых. И тишина, в воздухе растворились духи и тишина.
Он быстро прошёл на кухню — там никого не было. Заглянул в пустую спальню. И чуть не бегом влетел в большую комнату…
Лида сидела в кресле и читала книгу.
В ярком зелёном платье, в котором она любила ходить в театр. Волосы уложены каким-то огненным веером. На груди льдисто блестит ручеёк бус из горного хрусталя. Туфли на длинных и острых, как долотца, каблуках. Губы слегка подкрашены, ресницы немного подчернены, глаза чуть подведены. И запах, томный запах зноя и востока…
— Что случилось? — спросил он неуверенно.
Лида вскинула голову, полыхнув причёской, и пусто глянула куда-то ему за спину:
— Я не понимаю…
— Что-нибудь произошло? — повторил он, и сам не очень понимая своего вопроса.
Она пожала маленькими узкими плечами.
— Ты нарядная, сидишь в кресле…
— Да? — изумилась Лида, закрывая книгу. — Если жена нарядная и сидит в кресле, то, значит, что-нибудь случилось?
— Ну, как-то необычно…
— Жена нарядная и сидит в кресле — это необычно?
— Вернее — непривычно.
— Нарядная жена в кресле — непривычно?
Рябинин ещё не освободился от видения больничной палаты, которое не уходило из памяти, зацепившись там на весь сегодняшний вечер, — он уж знал. Может быть, поэтому и не мог вразумительно объяснить, что же его поразило. Не кресло же с платьем, в самом деле… Или всё-таки они — кресло, платье и блёсткий ручеёк хрустальных бус?
— Давай лучше поедим, — улыбнулся он, обрывая этот никчёмный разговор.
— А ужина нет.
— Как нет?
— Я, Серёженька, не приготовила.
— Что-нибудь произошло? — опять вырвалось у него.
Лида взметнулась… Он бы так и сказал, что она взметнулась, тихо сидя в кресле; она могла взметнуться и сидя, стоило ей резко повернуть голову и колыхнуть воздух веером причёски.
— Жена не приготовила ужина — это событие?
— Международное…
Она ждала этих его вопросов. Она их знала. Да ею подстроен этот разговор, в котором он вёл себя так, как она и предполагала. Но для чего?
Рябинин опустился на ковёр, к её ногам:
— Видимо, нам стоит поговорить?
— Поговорить со мной? — безмерно удивилась Лида, так повысив голос в конце фразы, что бросила «со мной», как ойкнула.
Рябинин чуть было не огляделся:
— А с кем же?
— У тебя есть дневник.
— Дневник для иного.
— Чтобы избежать одиночества?
— Я не одинок.
— Чтобы скрыть свои мысли?
— Их нечего скрывать…
— Пишешь, потому что тебя не слушают?
— Из-за этого я бы не писал.
— Тебя не понимают?
— Я стараюсь общаться с теми, кто меня понимает.
— Тогда зачем же дневник? — с каким-то радостным недоумением спросила она.
— Чтобы бывать наедине с собой.
— А без дневника нельзя?
— Дневник приближает себя к себе…
Она оборвала натиск вопросов, беспомощно приоткрыв рот от своей непонятливости. Рябинин хотел прийти на помощь и рассказать, как он приближается к себе, но взгляд скользнул по обложке её книги. «Последняя любовь». И чуть пониже, чуть помельче — «Роман». Роман о любви…
Он вздохнул.
— Да? Тебе не нравятся романы о любви?
— Слишком много пишут о том, что слишком редко встречается.
— А если ты её не замечаешь? — с готовностью предположила она.
— Как-то на днях у меня был свидетель. Влюбился в женщину, ушёл от жены. Вторая любовь… Смотрит однажды на её хорошенькое ушко и видит, что оно точь-в-точь как у первой жены. Загадочные глаза. И у первой были загадочные. Пышные волосы, так и у первой были пышные. Всё-таки отыскал на шее крохотную родинку, которой у первой жены не было. И подумал: ради этой родинки и ушёл?