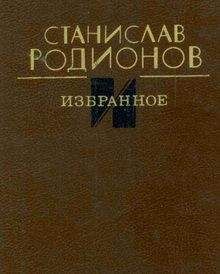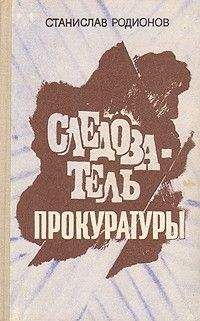Станислав Родионов - Криминальный талант
Рябинин вспомнил, как однажды они с Петельниковым искали преступника, о котором только знали, что номер его домашнего телефона кончается на цифру 89 — в шестизначном номере. Работа шла интересно и споро, а было её немало. И раскрыли.
— Пойдём, Лидок, домой, — предложил Рябинин, оставляя недоеденные сосиски. — Тебе же завтра на работу.
— Завтра суббота, Серёжа.
— Да?! — удивился он.
Что-то в его «да» она услышала ещё, кроме простого «да». Лида рассмеялась почти весело, будто он сострил:
— Так сказал, словно страшней суббот ничего нет. Обещаю завтра тебя не держать.
— А мне как раз некуда идти. Я теперь могу работать дома — сидеть и мыслить.
— Чудесно. Будем вместе мыслить. А куда мы идём?
Он опять привёл жену к воротам прибытия. Рябинина тянуло к ним, словно его подтаскивал туда один из тех могучих реактивных двигателей, которые стояли на самолётах. Увидит он этот проход с дежурным, и спустится на него озарение, наитие, откровение, хоть голос божий — вот что ему надо в аэропорту. Но оно даже не блеснуло, даже зарницы этого озарения не вспыхнуло.
От ворот прибытия вела широкая асфальтированная пешеходная дорожка, обсаженная молодыми липками — метров двести. Упиралась она в стоянки: справа такси, слева троллейбусы. Вот и весь путь потерпевших. Улетавший человек бродит по залам и кафе, а прилетевший сразу идёт по этой аллейке к транспорту.
— Пошли, Лида, — вздохнул Рябинин.
Конечно, чтобы найти брод, приходится много оступаться. Известно, что путь к истине усеян не только открытиями. Ошибки — тоже путь к истине. Но только одни ошибки — разве это путь?
Домой они пришли в два часа. Кажется, не светилось ни одно окно. Но уже светилось небо, на котором луна казалась бледной и немного лишней. Рябинин выпил ещё две чашки крепкого чаю и уставился на эту самую луну.
— Спать будешь? — осторожно спросила Лида.
— А как же, — бодро ответил Рябинин. — Чтобы завтра встать со свежей головой. Только постели мне в большой комнате, на диване, а? А то буду ворочаться, тебе мешать.
Лида усмехнулась. Она подошла и обвила тонкими руками его шею. Руки с улицы были прохладными, как стебли травы в лесной чаще. Она бы могла ничего не говорить, но она не удержалась — поцеловала его лёгким радостным поцелуем.
Рябинин пошёл в большую комнату, разделся, лёг на диван и уставился очками в потолок. И сразу повисло медленное время, будто сломались все часы мира и солнце навсегда завалилось за горизонт.
По каждому «глухарю» в уголовном розыске обычно накапливались кипы разного материала. И всегда было несколько человек подозреваемых, которых он отрабатывал, отбрасывал одного за другим, пока не оставался последний, нужный. Но по этому делу и подозреваемых-то не было. Хоть бы кто анонимку прислал…
Казалось, он перебрал все варианты. Петельников проверил всех лиц, которые так или иначе связаны с потерпевшими; опросил всех работников аэрофлота, которые работали в те дни.
И ничего — как поиски снежного человека. Петельников всё делал правильно, но вот он, Рябинин, в чём-то допускал просчёт. Видимо, надо отказаться от заданного хода мыслей, изменить ракурс, что ли… Подойти к проблеме с другими мерками, с другим методом. Но где взять этот метод?
Рябинину показалось, что он задремал. Небо ещё темнело, луна висела там же — в углу большого окна. И тишина в доме не скрипела паркетом и не гудела лифтом. Значит, ещё глубокая ночь, которой сегодня не будет конца.
А если она узнавала фамилии потерпевших — это всё-таки можно узнать в аэропорту, — звонила по телефону в Ереван или в Свердловск знакомой и просила найти по справочному имена и адрес родителей… Боже, как сложно, а потому нереально.
Если допустить, что встречающие их… Но их не встречали.
Рябинин сел на своём диване. Ему хотелось походить но чёртовы паркетины расскрипятся на весь дом. Может и правда начать курить — и красиво, и модно, и говорят помогает. Он знал, что ему сейчас необходимо переключиться на что-нибудь постороннее, тогда нужная мысль придёт скорее. Но он не мог — его мозг был парализован только одной идеей.
Он всё-таки встал и тихонько подошёл к окну. Нет, луна чуть сдвинулась, даже заметно съехала к горизонту.
Рябинин никогда не делился своими неприятностями с людьми — даже Лида знала только то, что видела. Ему казалось, что посторонним людям это неинтересно. А людей близких он не хотел обременять — нёс все беды и заботы на себе, как гроб. Поэтому бывал одинок чаще, чем другие. И сейчас, разглядывая небо, он вдруг хорошо понял волка зимой, севшего ночью на жёсткий голубоватый снег где-нибудь под треснувшей от мороза сосной и завывшего на жёлтую опостылевшую луну. Иногда и ему, как вот сейчас, хотелось сесть на пол и завыть.
Рябинин отошёл от окна и лёг на диван. Обязательно надо поспать, чтобы завтрашний день не выскочил из недели…
Перевоплотиться бы в эту потерпевшую Кузнецову. Сразу представил, как мама укладывает пирожки, провожает, беспокоится… Как Кузнецова летит, не говоря ни слова соседу, потому что тот старый. А он бы, Рябинин, заговорил как раз потому, что сосед старый. Как выходит из самолёта и идёт те двести метров — и он бы тоже пошёл. Как садится в троллейбус — в незнакомом городе и он бы сразу поехал к родственникам…
Перевоплотившись, он повторил путь, который мысленно делал уже десятки раз. Рябинин стал вспоминать, с чем были пирожки. С капустой, с яблоками… Вроде бы с мясом…
Теперь он наверняка задремал, даже спал — он мог поклясться, что спал. Но вдруг что-то блеснуло бело-бело, сине-сине, как электросварка. Он вскочил, озираясь по углам. Ему показалось, что там, во сне, или здесь, в комнате, ярко блеснули пирожки с мясом или с капустой. Рябинин подбежал к окну, уже не боясь скрипучих паркетин. Он знал, что сейчас, вот сейчас догадается — только бы не потерять ту мысль, которая пошла от пирожков. Вроде и с мясом были, и с капустой, и с яблоками обязательно… Ну да, они же из приличных семей, если им в дорогу пекут пирожки с яблоками. Какая дурь! Но от дури сейчас ближе к истине, чем от правильных аксиом. У них же любящие мамы… С мясом пирожок испечь трудно. Его же надо молотить, или молоть, или фаршировать — это самое мясо. А если любящие мамы, приличные семьи, то…
Рябинин бросился в переднюю и сорвал телефонную трубку. Диск завертелся неохотно, понимая, что стоит глубокая ночь.
— Вадим! — как ему показалось, шёпотом крикнул Рябинин. — Ты что делаешь?
— Да как тебе сказать, — хрипло замялся Петельников. — Если учесть, что сейчас три часа десять минут, то я смотрю широкоэкранный сон.
— Вадим, — зачастил Рябинин, — завтра утром возьми машину и вези ко мне потерпевших. Кажется, я нашёл.
— Ну?! — окончательно проснулся инспектор.
— Сейчас рассказывать не буду, боюсь жену разбудить.
— Но это… точно?
— Не знаю. Надеюсь. Всё решат завтра потерпевшие. Досматривай свой итало-французский…
Но он слышал, как Петельников закуривает, значит, спать больше не будет.
Рябинин повернулся и на цыпочках зашагал к большой комнате, будто ступая по кирпичикам в луже. Он смотрел на пол, поэтому прямо упёрся в Лиду, стоявшую на пути.
— Догадался?!
— Не скажу, сглазишь. — Он взял её за покатые плечи. — Надо ещё проверить.
— А сияешь-то, — засмеялась она. — Теперь будешь спать?
— Что ты! — удивился Рябинин. — Какой же теперь сон! Теперь я жду утра. А небо-то!
Оно высветилось до ровной глубокой белизны, свежей и какой-то пугливой, чего-то ждущей. Казалось, эта ясность трепещет в прохладном воздухе, как голуби, летавшие с балкона на балкон. И уже горели розовато-кровавыми полосами крыши, словно там, за домами, варили сталь.
Вдруг он увидел в руке Лиды книжку. Значит, она не спала, пока он корчился на диване. Не спала, когда он смотрел на луну. Рябинину сделалось стыдно. Бывают, будут в жизни минуты, когда захочется выть по-волчьи, и он будет выть. Но не когда друг за стеной.
— Лида, — помолчал Рябинин, не выпуская её тёплых, убегающих вниз плеч, — если тебе моё следствие осточертело, то скажи, я его брошу ко всем дьяволам!
— Если я возненавижу твоё следствие, то об этом никогда не скажу.
— Почему ж?
— Потому что ты бросишь меня, а не следствие.
— Ну да, — обиженно буркнул он.
— Нет, скорее ты будешь рваться между нами всю жизнь, до изнеможения.
— То-то сейчас не рвусь.
Он собрал её расплетённые косы в громадную охапку и зарылся в неё лицом — погрузился в тот особенный аромат, который можно разложить на запах духов, волос, тела, свежей подушки, но вместе всё это непередаваемо пахло Лидой. Он никогда не думал, что дороже — следствие или Лида, как не задумывался, какая рука важней. Лида была его первой и, он надеялся, последней любовью. Да и неважно, что будет, если любовь вдруг пройдёт, как неважно, что будет с землёю ещё через четыре миллиарда лет. Потом можно сойтись с дурой и уйти от неё к дряни, полюбить за шиньон или за брючный костюм, жить ради автомобиля или богатого папы — потом можно любить кого угодно. Но первую любовь выбирают так, словно это твой первый и последний выбор, потому что первая любовь, как родинка, — на всю жизнь.