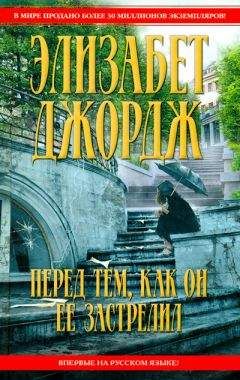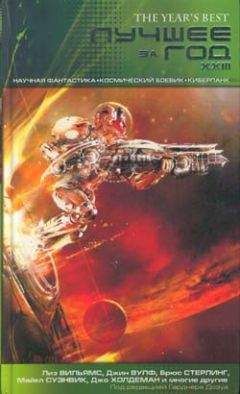Элизабет Джордж - Тайник
— Мэтт, выкладывай.
— Подожди, детка. Послушай. В прошлом году эти ребята потратили целое состояние на какого-то киношника из Нью-Йоркского университета. Им нужен проект. Понимаешь? В самом деле нужен.
— А ты откуда знаешь?
— Мне рассказали.
— Кто?
— В общем, я позвонил им и договорился о встрече. Но только на следующий четверг. Поэтому придется задержаться.
— Значит, прощай, Камбрия.[2]
— Нет, мы обязательно туда выберемся. Только не на следующей неделе.
— Понятно. Тогда когда?
— В этом все и дело.
Звуки улицы на том конце вдруг стали громче, как будто он окунулся в них, вытесненный с тротуара напором городской толпы в конце рабочего дня.
— Мэтт? Мэтт? — сказала она в трубку и внезапно страшно перепугалась, представив, что потеряла его.
Черт бы побрал эти телефоны со связью вместе, вечно она исчезает в самый неподходящий момент. Но тут его голос вернулся, а шумов стало меньше. Зашел в ресторан, объяснил он.
— Для меня это пан или пропал. А ведь мой фильм обязательно возьмет приз на каком-нибудь фестивале, Чайна. По крайней мере, на Санденсе,[3] а ты знаешь, что это значит. Мне совсем не хочется так подводить тебя опять, но если я не договорюсь с этими ребятами, то мне просто не на что будет с тобой куда-нибудь поехать. Ни в Камбрию, ни в Париж, ни даже в Каламазу.[4] Такие вот дела.
— Хорошо, — ответила она, хотя все было совсем не хорошо, и он мог бы догадаться об этом по ее тусклому голосу.
Месяц назад он обещал ей выкроить два дня, свободные от встреч с потенциальными продюсерами в Лос-Анджелесе и вылазок за деньгами в разные уголки страны, и шесть недель назад она начала отказывать клиентам, а он еще вовсю преследовал свою мечту.
— Иногда, — продолжила она, — я сомневаюсь, получится ли у тебя вообще когда-нибудь, Мэтт.
— Знаю. Порой кажется, что на один фильм уходит целая вечность. И так оно иногда и бывает. Ты же знаешь такие истории. Годы съемок, а потом — бац! — и касса в кармане. Но я своего добьюсь. Мне это необходимо. Жаль только, что мы с тобой чаще бываем врозь, чем вместе.
Чайна слушала и наблюдала за малышом, который катил по тротуару на трехколесном велосипеде в сопровождении бдительной матери и еще более бдительной немецкой овчарки. Ребенок доехал до того места, где цементная поверхность дорожки вспучилась, приподнятая древесным корнем, и переднее колесо его велосипеда уперлось в холмик. Он продолжал крутить педали, но ничего не получалось, так что пришлось мамочке ему помочь. Глядя на них, Чайне вдруг стало грустно.
Мэтт ждал ее ответа. Она попыталась придумать какой-нибудь новый способ выразить свое разочарование, но ничего не приходило в голову. Тогда она сказала:
— Вообще-то я не о фильме говорила, Мэтт.
— А-а, — ответил он.
Говорить было больше не о чем, потому что она знала: он останется в Нью-Йорке, чтобы пойти на встречу, за которую так долго бился, а ей придется самой заботиться о себе. Еще одно свидание сорвано, еще одна жертва великому жизненному плану принесена.
Она сказала:
— Ну ладно, удачи тебе на встрече.
Он ответил:
— Я буду звонить тебе. Каждый день. Хорошо? Ты согласна, Чайна?
— Разве у меня есть выбор? — спросила она и попрощалась.
Она злилась на себя за то, что закончила разговор вот так, но ей было жарко, тяжко, тошно и ужасно жалко себя… В общем, как хотите, так ее ощущения и назовите. Как бы там ни было, ей больше нечего было ему дать.
Свою неуверенность в завтрашнем дне — вот что она больше всего ненавидела, хотя давно научилась не давать ей воли. Но когда та выходила из-под контроля и врывалась в ее жизнь, точно передовой отряд противника в хаос отступающей армии, это всегда заканчивалось плохо. Она начинала верить в то, что только издавна ненавидимый ею способ заарканить мужика, женив его на себе любой ценой и как можно скорее нарожав детишек, и есть единственно правильный. «Это не для меня, повторяла она себе раз за разом. Но какая-то ее часть все равно стремилась именно к этому. И тогда она начинала задавать вопросы, предъявлять требования и больше заботиться о «мы», чем о «я». Когда это происходило, между ней и мужчиной — то есть Мэттом — снова вспыхивал спор пятилетней давности. Бесконечная полемика на тему брака всегда заканчивалась одинаково: он открыто заявлял, что надевать ярмо не собирается, — как будто она и так этого не знала, — в ответ она осыпала его яростными упреками, и они разбегались после того, как один из них заявлял, что устал от этих вечных разногласий. Но те же самые разногласия и сводили их вновь. Они заряжали их отношения такой возбуждающей силой, которой ни одному из них не удавалось достичь с кем-либо другим. Он, скорее всего, пытался. Чайна это знала. Она — никогда. Ей это было ни к чему. Ведь она давно поняла, что, кроме Мэттью Уайткомба, ей не нужен ни один мужчина.
Чайна еще раз пришла к этому убеждению уже на пороге своего бунгало — тысячи квадратных футов, построенных в двадцатые годы двадцатого века в качестве воскресного убежища для некоего обитателя Лос-Анджелеса. Дом стоял среди других похожих домов на засаженной пальмами улице, близко к воде, что позволяло наслаждаться прохладным бризом с океана, но волны до него не доставали. Жилище было довольно скромное: пять маленьких комнат, считая ванную, и всего девять окон, с широкой верандой по фасаду и двумя прямоугольниками травы перед домом и за ним. От улицы участок отделяла изгородь из штакетника, ронявшая хлопья белой краски на клумбы и тротуар, и именно к ней, точнее, к калитке в ней Чайна и потащила свое фотографическое оборудование, завершив разговор с Мэттом.
Жара здесь стояла удушающая, почти такая же, как на холмах, но ветер был потише. Листья на пальмах трещали, как старые кости, лавандовая лантана с цветами, похожими на лиловые звездочки, росшая местами у изгороди, безжизненно поникла в ярком солнечном свете, а земля у корней так спеклась за день, как будто ее не поливали как минимум сутки.
Чайна приподняла и распахнула покосившуюся калитку, футляры с фототехникой оттягивали ей плечи и подавляли желание отправиться прямиком в сарай и вытащить оттуда шланг, чтобы полить бедное растение. Но открывшееся глазам зрелище заставило позабыть обо всем: посреди газона лежал на пузе мужик в одних трусах, подложив под голову, точно подушку, свернутые в ком джинсы и линялую желтую футболку. Башмаки отсутствовали, подошвы ног были чернее черного, а загрубевшие пятки растрескались. Судя по состоянию его локтей и коленей, мытье, как и ношение обуви, было у него не в чести. Чего нельзя было сказать о еде и физических упражнениях — подтверждением тому служила хорошая фигура без лишнего жира. О питье тоже: в правой руке он сжимал запотевшую бутылку «пеллегрино». Из ее холодильника, судя по виду. Ту самую, которую она так мечтала прикончить. Он медленно перевернулся и, прищурившись, посмотрел на сестру, опираясь на грязные локти.
— С безопасностью у тебя хреново, Чайн.
И он смачно глотнул из бутылки. Чайна взглянула на крыльцо и увидела вскрытую дверь-сетку и распахнутую входную дверь.
— Черт тебя побери, — заорала она, — ты что, снова лазал ко мне в дом?
Ее брат сел прямо и прикрыл от солнца глаза.
— А ты чего это так вырядилась? Тридцать с лишним градусов, а ты как будто в Аспене[5] в январе.
— Зато ты, похоже, дожидаешься, когда тебя придут арестовать за непристойный вид. Господи, Чероки, где твои мозги? На этой улице ведь есть маленькие девочки. Да если хоть одна из них пройдет мимо и увидит тебя в таком виде, полицейский наряд будет здесь через пятнадцать минут.
Она нахмурилась.
— Ты кремом от загара намазался?
— Ты не ответила на мой вопрос, — напомнил он. — Почему ты в коже? Запоздалый протест?
Он усмехнулся.
— Видела бы эти штаны мама, она бы тут…
— Я их ношу, потому что мне они нравятся, — отрезала Чайна. — В них удобно.
«И еще потому, что я могу себе это позволить», — добавила она мысленно.
И в этом была главная причина: ей нравилось, живя в Южной Калифорнии, покупать роскошные и бесполезные вещи только потому, что ей хотелось их иметь; в детстве и юности ей приходилось колесить по универмагу «Гудвил» в поисках вещей, которые бы неплохо сидели, были не слишком безобразны и на которых — в угоду убеждениям матери — не было бы ни клочка натуральной кожи или меха.
— Ну конечно. — Он поднялся на ноги, когда она проходила мимо него к крыльцу. — Кожа в Санта-Ане. Очень удобно. Как я сразу не понял?
— Это моя последняя бутылка «Пеллегрино». — Она поставила футляры с техникой прямо в открытую дверь. — Я всю дорогу о ней мечтала.
— Дорогу откуда?
Она ответила, и он опять усмехнулся.