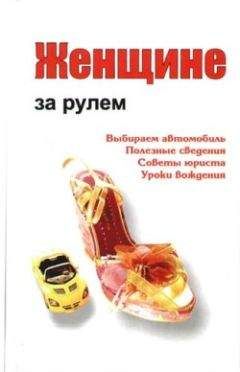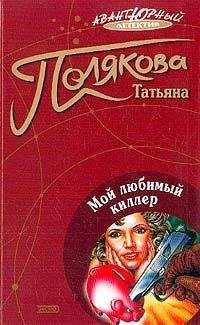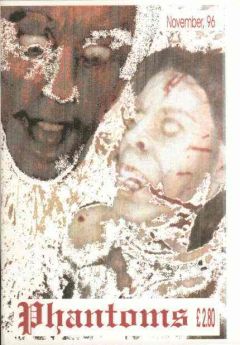Татьяна Степанова - Рейтинг темного божества
Глава 9. ФОТОГРАФИЯ
Мещерскому Анфиса повторила свой рассказ слово в слово. Тот, огорошенный длительными поисками адресата, присутствием взволнованной Кати, слушал, казалось, вполуха. Взирал на домашний Анфисин хаос, на пустые ампулы и использованный одноразовый шприц, оставленные врачом на подзеркальнике, на окровавленные марлевые тампоны, которые Катя еще не успела выбросить в мусорное ведро. Анфиса повествовала, крепко прижимая к пышной груди красную коробку, словно страшную драгоценность.
— Да, история. — Мещерский хмыкнул, когда она закончила. — Убийца с ножом. Даже с таким вот ножом. — Он повторил Анфисин широкий жест. — Анфиса, не волнуйтесь, я вас понял. Но надо же все-таки случиться такому совпадению…
— Какому еще совпадению? — не поняла Катя.
— Ну как же? Гроза, молнии сверкают, по двору несутся мутные потоки воды, а тут еще кто-то, как назло, лампочки вывернул… И тленом могильным дохнуло. И рост у нападавшего вполне подходящий — маленький…
— А в чем дело? — спросила Анфиса. — Сережа, вы что, мне не верите?
— Я верю, верю. Только если поедем в милицию, историю надо изложить как-нибудь попроще. А то, когда там речь зайдет о маленьком, чрезвычайно плотном убийце с ножом, грозе и вывернутых в уборной… пардон, в подъезде лампочках, окажется, что дежурный лейтенант — с детства поклонник Булгакова, а от главы про нападение на администратора варьете Варенуху просто тащится.
— По-вашему… по-твоему, дорогой, я все сочинила и я же похожа на Варенуху? — гневно спросила Анфиса.
Катя не удержалась и фыркнула. Мещерский покраснел, оробел под ее взглядом. Он составлял ровно половину могучей, щедро одаренной телесными формами Анфисы и в самом крайнем случае на снисхождение и пощаду мог даже не рассчитывать. Но Анфиса и сама не удержалась — фыркнула и засмеялась. И этот смех был как лекарство.
— Ладно, девушки, шутки в сторону, — сказал Мещерский. — Конечно, это дело так оставлять нельзя. Но все же с версией по поводу покушения я бы пока погодил. Если вы, Анфиса, в состоянии, поедем в отделение прямо сейчас, напишем заявление о том, что на вас напал вооруженный грабитель. Пусть принимают меры.
— Я думаю, что на меня напали вот из-за этого, — тихо сказала Анфиса и наконец-то открыла свою заветную коробку.
К большому разочарованию Кати, там оказались… старые шерстяные клубки. Когда-то, еще до романа с Лесоповаловым, Анфиса от скуки свободными вечерами вязала. Теперь же это занятие было заброшено, и клубки с аппетитом поедала моль. Анфиса вытряхнула клубки прямо на пол, на палас и достала со дна коробки большую мятую фотографию.
Еще не видя, что там на этом фото изображено, Катя, опять же долго не раздумывая, Анфисе поверила. О, она знала ее характер и ее хватку профессионального фоторепортера. Фото в наше время — это уже предлог для разборок, особенно фотокомпромат. Вполне могло случиться так, что Анфиса влезла в какую-то, с ее точки зрения, убойно-сенсационную историю и запечатлела своей досужей репортерской камерой кого-то и при таких нелицеприятных обстоятельствах, что этот кто-то не на шутку забеспокоился. И даже послал какую-то наемную погань разобраться с Анфисой у подъезда. Катя хотела было озвучить свои домыслы, но тут внезапно увидела лицо Мещерского. Он смотрел на снимок.
— Черт… Анфиса, откуда это у вас?!
Катя через его плечо глянула на снимок и… Стоп. Это еще что такое?
Снимок был старый, пожелтевший от времени. И по диагонали, и по вертикали его покрывали трещины и заломы. В первое мгновение Кате показалось, что он дореволюционный. Он был как бы составлен из двух частей — первый план более светлый, второй — темный. На снимке был запечатлен зал, в котором праздновался банкет. Центр снимка занимал богато накрытый банкетный стол. Возле него группировались напряженно уставившиеся в объектив люди. Мещерский насчитал двадцать три человека. Среди запечатленных в основном преобладали мужчины. Большинство из них были во фраках и визитках. Но было и несколько военных, причем форма их была точь-в-точь как в фильме про белых — ладные офицерские мундиры, адъютантские аксельбанты, белые и черные щегольские черкески с серебряными газырями. В тесной группе военных Катя заметила человека в штатском — во фраке, белом галстуке и в черной маске домино. Он смотрел не прямо в объектив, а на то, что лежало на праздничном столе.
Когда впоследствии Катя снова и снова разглядывала эту фотографию, она всегда поражалась тому, как богато и обильно в годы войны и лишений был накрыт этот ужасный стол: крахмальная скатерть, бронзовые канделябры, хрустальные вазы, полные спелого винограда. Однако все тарелки, приборы, бутылки и блюда с закуской были как-то хаотично сдвинуты к краям стола. А в центре, среди цветов и фруктов, обложенный по обеим сторонам аршинными осетрами, точно чудовищным гарниром, лежал…
Катя, почувствовав, как к горлу подкатывает дурнота, отвернулась. И наткнулась на взгляд Анфисы — та смотрела на фото как завороженная.
Посреди банкетного стола лежал покойник. Мертвец в смокинге и лаковых штиблетах. Такие штиблеты носили в начале прошлого века. Руки мертвеца были вытянуты вдоль туловища. Лицо было восковым, покрытым какими-то уродливыми темными пятнами, точно проказой. Это был совсем молодой человек, лет, наверное, двадцати — двадцати пяти, прямые светлые волосы его были зачесаны на косой пробор и сильно напомажены. Снимок был сделан таким образом, что ступни мертвеца, обутые в штиблеты, казались несуразно огромными, а голова — крохотной, птичьей.
Здесь же, в центре снимка, у самых ног покойника за столом в окружении мужчин сидели две молодые дамы. Катя скользила взглядом по их изображению — нарядные кружевные платья, пышные прически времен Первой мировой войны — их тогда называли звучно Клео де Мейрод, жемчужные ожерелья, меховые горжетки, длинные перчатки. Одна из женщин смахивала на породистую статную цыганку. В руках она держала какой-то странный предмет — вроде бы деревянный Андреевский крест, перечеркнутый планкой, перевитой какими-то соломенными жгутами, — Катя, приглядевшись, даже различила колосья. Вторая женщина тоже была молода и стройна, но похожа на очень красивую юродивую. Что-то такое было в ее глазах — странное, жалкое, исступленное и вместе с тем зловещее, что трудно было вынести даже на фото. Женщина сжимала в руке хрустальный бокал с какой-то темной жидкостью. Она вздымала его в неистовом, вакхическом порыве, словно приглашая всех без исключения принять участие в этом шокирующем застолье — в этой тризне.
Тризна… Это слово после долгой паузы произнес Мещерский. Он долго и внимательно разглядывал снимок. Перевернул его, посмотрел на оборот — лишь пожелтевшая бумага, ни надписей, ни дат.
— Анфиса, откуда это у тебя? Где ты это взяла? — спросила Катя. Голос ее внезапно охрип.
— Мне его дали. Буквально всучили. — Анфиса протянула здоровую руку и взяла снимок. — Я же говорю — в среду со мной произошла странная вещь. Я буквально на пять минут заскочила в нашу галерею и встретила там Мишку Гальянова из ИТАР-ТАСС. Ну, потрепались мы с ним за жизнь, угостил он меня обедом в китайском ресторанчике — он мне его должен был за то, что я его в один журнал устроила, а потом буквально силком потащил меня на открытие фоторевю в Манеже. Первая большая выставка после восстановления — мне не столько на фотки хотелось посмотреть, сколько на само здание — что там наворотили после пожара. Ну, побыла я там, потом снова пошла перекусить — там кафе сносное. Сама знаешь, Катя, скоро это у меня не бывает, да еще журналистов знакомых встретила — короче, выставка уже закрывалась, когда я собралась оттуда уходить. В дверях ко мне подскочил странный тип. — Анфиса прищурилась, словно вспоминая. — Там секьюрити дежурили в дверях и внутрь уже никого не пускали. Он, видимо, хотел попасть на выставку, но у него ничего не вышло. Он опоздал. Народу было немного. У меня на шее, как обычно, болталась камера и зарядное устройство, видимо, этим я и привлекла его внимание. Он подошел ко мне и тихо спросил: «В-вы ж-журналист? В-в г-газете р-работаете?» Я работаю в фотоагентстве, но говорить я этого ему не стала — просто кивнула. Он оглянулся по сторонам — вид у него был какой-то странный, я даже подумала, что у него не все дома, спросил еще тише: «В-вы м-можете это оп-публиковать?» — и начал доставать из внутреннего кармана пиджака что-то — я не поняла что. Внезапно он замер, смотря куда-то поверх моей головы, в сторону выхода. Занервничал, сунул мне сверток, завернутый в тонкую кальку, и забормотал что-то, страшно заикаясь на каждом слоге. Я лишь разобрала из всей его тарабарщины, что то, что он мне вручает, я, как человек, несомненно, верующий в добро и журналист, должна придать немедленной огласке в прессе. Еще он что-то бормотнул насчет какой-то кровавой июньской жатвы. Я не успела переспросить, он вдруг тихо охнул, словно увидел что-то там, на улице возле Манежа, до боли стиснул мне руку и кинулся прочь. Я поспешила за ним, но догнать его не смогла — видела только издали, как он сел в машину, припаркованную возле троллейбусной остановки. Какую именно, я в сумерках и в спешке не разобрала. Когда я развернула кальку и увидела вот это вот, я… ребята, честное слово, мне сразу стало как-то не того, лево… Жуть какая-то, а не фотка, правда?