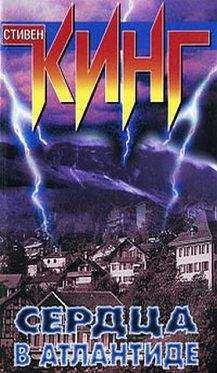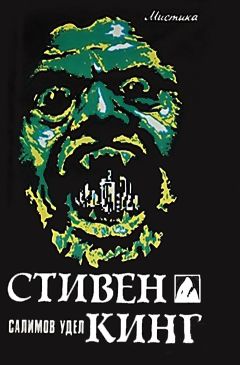Стивен Кинг - Джойленд
— Я тебя подвезу, сынок, — сказал он. — Прыгай в тележку.
— Спасибо, — глухо поблагодарил я.
— Гав-гав! — вставил кто-то, и все расхохотались.
Мы ехали по Бульвару под жутковатым, неровным светом люминесцентных ламп. Та еще парочка: за рулем старикан-уборщик в зеленой униформе, а рядом — огромная голубоглазая овчарка. Когда мы подъехали к обозначенным стрелкой ступенькам с надписью „Туда-Сюда“, старик сказал:
— Не разговаривай. Гови не разговаривает, а только обнимает детишек и гладит их по головке. Всё, удачи, а если вдруг станет дурно, сразу же сваливай. Вряд ли им понравится, если Гови хватит тепловой удар.
— Я понятия не имею, что я должен делать, — сказал я. — Никто мне не объяснил.
Не знаю, был ли уборщик потомственным ярмарочником, но он кое-что знал о Джойленде.
— Ерунда. Детишки любят Гови. Они знают, что делать.
Я выбрался из тележки, едва не споткнувшись о свой собственный хвост (пришлось дернуть за шнурок в левой передней лапе, чтобы убрать чертову штуковину с дороги) и поднялся по ступенькам к двери. С засовом пришлось немного повозиться. Из-за двери доносилась музыка, что-то смутно знакомое из детства. Наконец, ручка поддалась. Дверь открылась, и сквозь сетчатые глаза Гови полился яркий июньский свет, который моментально меня ослепил.
Музыка стала громче (играла она из подвешенных наверху колонок). „Хоки-Поки“, — вспомнил я, — вечный детсадовский хит. Я увидел качели, горки, доски-качалки, всевозможные лестницы и перекладины, которыми заправлял салага с кроличьими ушами на голове и кроличьим же хвостиком на джинсах. Мимо пронесся Трясун Чух-Чух, маленький паровозик, способный достигать астрономической скорости в четыре мили в час. Детишки на паровозике прилежно махали, позируя родителям. За тьмой снующих туда-сюда малышей присматривало несколько летних работников плюс двое постоянных, судя по всему, дипломированных воспитателей.
На последних — мужчине и женщине — были футболки с надписью „Мы любим счастливых детей“. Прямо впереди стоял „Ковбойский Корраль“, помещение, в котором родители могли оставить детей на попечение парковых работников.
Я увидел мистера Истербрука: все еще в своем похоронном костюме, он обедал на лавочке под парковым зонтиком. Поначалу он меня не заметил, потому что смотрел на вереницу детей, которых двое салаг вели в „Корраль“.
Как я потом узнал, малышей можно было оставлять в „Коррале“ максимум на два часа, пока родители катают детей постарше на больших аттракционах или обедают в „Лобстере“, парковом ресторане.
Также я узнал, что „Корраль“ предназначался для малышей от трех до шести лет. Многие дети вели себя спокойно, видимо, потому, что им было не привыкать оставаться с посторонними, пока мама и папа работают. Другие справлялись хуже. Может, поначалу они еще держались, когда мама и папа говорили, что вернутся через час или два (словно бы четырехлетнему карапузу было знакомо само понятие „час“), но теперь они остались одни в шумном, непонятном и полном чужаков месте, а мама с папой исчезли. Некоторые уже плакали. Под покровом своего костюма, глядя сквозь сетчатые глаза и потея как свинья, я подумал, что наблюдаю за неким, чисто американским, издевательством над детьми. Ну зачем приводить ребенка — ваше, заметьте, любимое чадо — в шумный и огромный парк развлечений только для того, чтобы сдать его на попечение незнакомых сиделок, пусть и на короткое время?
Салаги уже видели слезы в глазах малышей (слезы переходят от одного малыша к другому со скоростью заразной болезни, например, кори), но как их остановить они понятия не имели. Да и откуда? В первый же рабочий день их бросили в самую гущу событий, совсем как меня, когда Лэйн Харди ушел и оставил меня одного управляться с чертовым колесом. Мне тогда еще повезло: дети младше восьми катались на „Колесе“ только в сопровождении взрослых. Эти же малявки остались совсем одни.
Что делать я тоже не знал, но чувствовал, что надо попытаться.
Я пошел к детишкам, подняв вверх лапы и размахивая хвостом как сумасшедший (хвоста я не видел, но чувствовал прекрасно).
И как только двое или трое малышей меня увидели и стали показывать пальцем, на меня снизошло вдохновение. Музыка. Я остановился на пересечении Конфетной и Леденцовой улиц, прямо под двумя орущими колонками. Росту во мне было футов семь, от лап и до меховых вздернутых ушей, и зрелище и представлял впечатляющее. Я поклонился детям, которые стояли теперь раскрытыми ртами и широко распахнутыми глазами. Они смотрели, а я принялся танцевать „Хоки-Поки“.
Вся грусть и тоска по родителям тут же были забыты, хотя бы на время. Малыши — у некоторых на щеках еще не высохли слезы — начали смеяться. Они потянулись ко мне, но, пока я исполнял свой неуклюжий танец, подойти вплотную не решались.
Им было интересно, а не страшно. Они все знали Гови; жители Каролин видели его по телевизору, но даже обитатели таких экзотических мест как Сент-Луис или Омаха видели брошюрки и рекламу во время утренних мультиков по субботам. Они понимали, что Гови хоть и большой, но добрый. Он не кусается. Он их друг.
Левую ногу вперед; левую ногу назад; левую ногу вперед и попкой повилять. Я сделал Хоки-Поки и покрутился на месте, потому что — как знает каждый американский ребенок — трюка легче нет. Я забыл про жару и дискомфорт. Я не думал о застрявших в заднице трусах. Позже у меня будет жуткая вызванная жарой головная боль, но в ту минуту я чувствовал себя неплохо. Даже хорошо.
И знаете, что? Я даже ни разу не подумал о Венди Кигэн.
Когда „Хоки-Поки“ сменила мелодия из „Улицы Сезам“, я закончил танец, упал на одно колено и протянул руки а-ля Эл Джолсон.
— Говииии! — выкрикнула одна малышка, и даже столько лет спустя я прекрасно помню восторг в ее голосе.
Она ринулась вперед. Розовая юбочка била ее по пухлым коленкам.
И тут парной шеренге пришел конец.
Дети знают, что делать, сказал тогда старожил, и как же он был прав. Детишки зароились вокруг меня, потом сбили с ног, а потом обступили со всех сторон и принялись со смехом обнимать.
Малышка в розовой юбочке не переставая целовала меня в морду с криками „Гови, Гови, Гови!“.
Несколько затесавшихся в „Туда-Сюда“ родителей с фотокамерами тоже направились ко мне. На их лицах читался не меньший восторг. Я помахал лапами, чтобы все расступились, перевернулся на живот и встал до того, как они меня снова сокрушат своей любовью. Хотя в те минуты я тоже их любил. Да, я чуть ли не варился заживо, но как же было здорово.
Я не увидел, как мистер Истербрук достал из своего похоронного пиджака рацию и что-то коротко в нее сказал. Знаю только, что мелодия из „Улицы Сезам“ внезапно прервалась, а вместо нее снова заиграла „Хоки-Поки“. Правую ногу вперед, правую ногу назад. Малышня тут же включилась в танец, ни на мгновение не спуская с меня глаз, чтобы не пропустить следующее движение и не отстать от остальных.
И вот опять мы все исполняем „Хоки-Поки“ на перекрестке Конфетной и Леденцовой улиц. Салаги-бэйбиситтеры к нам присоединились. И будь я проклят, если к нам не присоединились некоторые родители. Я даже вильнул хвостом в такт музыке.
Бешено хохоча, детишки сделали то же самое воображаемыми хвостиками.
Когда песня закончилась, я лихо взмахнул левой лапой, мол, „за мной, ребятки!“ (при этом я нечаянно так дернул хвостом, что чертова хреновина чуть не отвалилась) и повел детишек в „Корраль“. Они последовали за мной с такой же охотой, с какой дети города Гамельна последовали за крысоловом. Никто уже не плакал. И это, кстати, был еще не самый лучший день моей блестящей карьеры в роли Гови, Пса-Симпатяги, хотя явно один из лучших.
Когда дети благополучно добрались до „Ковбойского Корраля“ (девчушка в розовой юбочке задержалась в дверях, чтобы помахать мне на прощанье), я развернулся кругом, но мир вокруг меня, казалось, не остановился вместе со мной. Пот заливал мне глаза, заставляя двоиться „Деревню Туда-Сюда“ со всем содержимым. Я закачался на задних лапах. Все представление, от первых па „Хоки-Поки“ до прощального взмаха девочки в розовом, заняло минут семь — максимум девять, но я полностью вышел из строя. Не зная, что делать дальше, я затрусил обратно той дорогой, которой пришел.
— Сынок! — услышал я. — Сюда.
Это был мистер Истербрук. Он придерживал для меня заднюю дверь закусочной „Колодец Желаний“. Возможно, через эту дверь я и пришел — скорее всего так, но волнение помешало мне это заметить.
Он жестом пригласил меня войти, закрыл за нами дверь и расстегнул молнию на спине моего костюма. На удивление тяжелая голова Гови свалилась с моей собственной, и меня овеяла благословенная прохлада кондиционера. По моей незагорелой коже (недолго ей было суждено такой оставаться) побежали мурашки. Я сделал несколько глубоких вдохов.