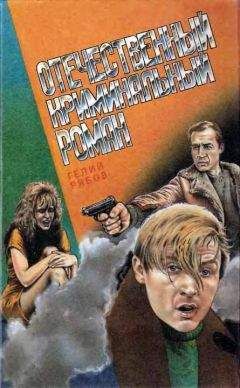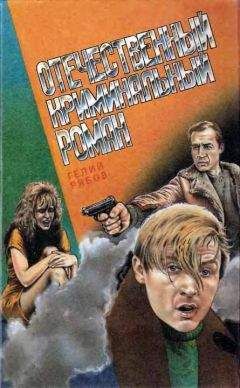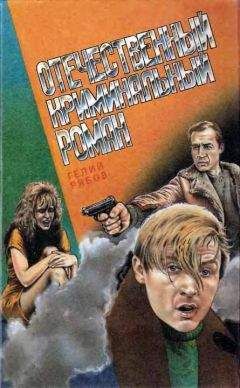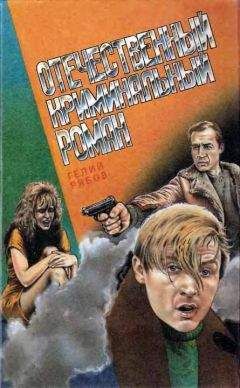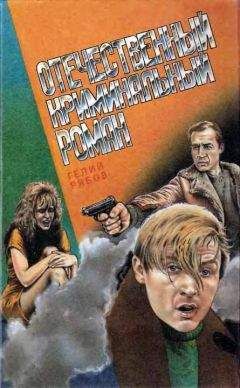Гелий Рябов - Бывший
— Благодарю вас… — Он вошел в комнату.
Она была обставлена старой мебелью, внушительной и монументальной, в былое время такие вещи любили начинающие врачи и мелкие адвокаты. Над большим квадратным столом розовел выцветший шелковый абажур, все пространство над буфетом занимала большая, плохо исполненная фотография мужчины лет тридцати, по всей вероятности, это был муж Анфисы или кто-нибудь из родственников. В углу на тумбе стоял патефон.
— Ужинать будете?.
Белобрысый кивнул, и Анфиса ушла на кухню — сразу же послышался стук тарелок. Через несколько минут она принесла блюдо с дымящейся картошкой в мундире, банку соленых огурцов и полбутылки водки.
— Прошу, — она села первой.
— Из хорошей семьи? — нагло спросил Корочкин.
— Музыке учили… Вам положить?
— Благодарю, я сам.
— Простите, я не услышала вашего имени.
Корочкин бросил на немцев насмешливый взгляд:
— Меня зовут «ты».
Она кивнула:
— Редкое имя. Ты будешь спать вместе с ними?
— Со мной, — сказал белобрысый. — А в твоей комнате с этого раза будет спать он… — Белобрысый повел головой в сторону шатена.
— Не бойся, я тебя не трону, — кивнул тот.
— Ему пока не до этого, — подтвердил белобрысый. И оба засмеялись.
Странное дело, подчас совсем незначительная деталь, нюанс в манере поведения убеждает гораздо больше, нежели целая цепочка неопровержимых фактов. Конечно же, это немцы… Зашипела патефонная игла, знакомый голос проговорил первые слова знакомого романса. Корочкин посмотрел на Анфису и почему-то подумал, что Вертинский поет про нее: «Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная, и я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума…»
Потом неделю подряд они дежурили у здания городского управления милиции, бродили по улицам, ездили в трамваях и троллейбусах — в надежде случайно обнаружить «Зуева». Немцы не предложили искать его по адресному столу, из чего Корочкин вывел, что этим путем они уже прошли. С каждым днем оба все больше мрачнели.
— Нужно посмотреть за районными отделами милиции и за отделениями, — предложил Корочкин.
Потратили еще три дня, постепенно немцы привыкли к Корочкину, их бдительность не то чтобы ослабела, но как-то пожухла, покрылась патиной, потускнела. Они уже не дергали его на каждом шагу, не приставали с пустяками, у него сложилось впечатление, что ему стали несколько больше доверять. И он решил, что пришло время действовать, потому что «Зуева» увидел выходящим из подъезда управления милиции в первый же день. «Зуев» потолстел, добротный костюм, сшитый, по всей вероятности, у лучшего городского портного, придавал ему респектабельный вид. Корочкин увидел его и удивился: внутри ничего не дрогнуло. А ведь было время — боялся, что придется себя сдерживать, потому что желание броситься на гадину и сдавить ему горло одеревеневшими пальцами будет непреодолимо. Но нет… И слава Богу. Зашли в пивную, здесь было дымно и шумно, после введения продовольственных карточек пиво оставалось, пожалуй, единственным продуктом, который отпускали за деньги. Белобрысый принес три кружки и тощую воблу, которую тут же купил у одноногого инвалида с костылем, нашелся отдельный столик, сели, Корочкин сказал:
— Примитивно ищем, нужна идея, так что думайте, ты и ты… А пока покупаем или берем где-нибудь во дворе лопату — это лучше, так как продавец в магазине может запомнить лицо. Туда уедем с последним поездом, рассвет теперь ранний, в четыре часа пополуночи. Один копает, двое охраняют дорогу на подступах. Потом меняемся. Яма неглубокая, за полтора часа управимся. К шести все кончим. В это время там наверняка ни души и не ездит; никто.
— Проверить надо… — сказал белобрысый.
— Вот один из вас и поедет с последним поездом и переночует в лесу. Потом — второй. На третью ночь можно действовать.
Немцы переглянулись.
— Заметано, — кивнул белобрысый. Он употребил жаргон по привычке, хотя давно уже понял, что Корочкин этому жаргону не верит. Но действовало профессиональное правило: поскольку мысли Корочкина пока еще (и к сожалению) не подотчетны, а в реальности ему известна определенная легенда, в общении между собой эту легенду необходимо поддерживать.
Все разворачивалось по плану Корочкина: первым вернулся из леса белобрысый, он был напрочь искусан комарами и страшно зол. Версия подтвердилась: до шести утра дорога в лесу была совершенно пуста. Вторым поехал шатен. Вечером, часов в одиннадцать, Анфиса предложила поиграть в карты, сели под абажур, Корочкин спросил:
— В «дурака»?
— Я устал, спать пойду… — Белобрысый сладко зевнул, но, как показалось Корочкину, несколько преувеличенно. Заскрипела лестница, белобрысый спускался на первый этаж. Минут десять перебрасывались картами, Анфиса была сумрачна и рассеянна.
— Не захотел играть, — сказал Корочкин со значением.
— Не умеет, — ответила Анфиса и добавила: — В эту игру.
— А в какую умеет?
— А в какие у них играют — в те и умеет, — намекнуть прозрачнее было невозможно.
Корочкин подошел к дверям, прислушался.
— Похоже, спит?
Она сняла туфли, вышла в коридор. Усмешливо взглянув, достала из стенного шкафчика деревянный клин и вставила под верхнюю ступеньку.
Заплакала.
— Это муж придумал… Он приходил поздно. — Анфиса вытерла глаза и закончила уже спокойнее: — Будить не хотел. Пробуйте…
Корочкин спустился вниз — лестница не скрипнула, из комнаты доносился храп. Осторожно приоткрыл дверь: белобрысый лежал поперек кровати и сладко спал. Сделал несколько шагов, немец не пошевельнулся; Корочкин решился: сунул руку под подушку и извлек пистолет — тот самый, горбатенький. Вернулся в комнату, предварительно вынув клин: теперь сторожила лестница.
— Сами-то пользуетесь?
Она прищурилась:
— Вы с ними пришли… Вы русский?
— Русский. И что же?
— У русского человека душа есть. А в душе — тайничок.
— Душа у всех есть…
— У них нет. Ницше читали? Умер бог. Они не люди. Вы кем были? Раньше?
В конце концов, что он терял? Она — подстава Краузе? Хотят узнать подноготную? Не похоже. Таким способом ничего не узнать. Но — допустим. Так ведь им сказал все или почти все, скажет и этой, пистолет — в кармане и, если что — какая разница? Часом позже, часом раньше… А вдруг она станет союзником? Он начал рассказывать, это длилось не более, пяти минут, он заметил по стенным часам. Когда закончил, перехватил ее взгляд: она смотрела на фотографию.
— Муж?
— Мне совет ваш нужен… — Она справилась с волнением и продолжала: — Тут — до вас еще явился… белокурый… Здравствуйте, то се, подает письмо. Читайте… — Она расстегнула верхнюю пуговицу платья и протянула сложенный вчетверо листок.
«Фисочка, я, сама понимаешь — где, так получилось. Помоги подателю сего. Умоляю, потому что очень хочу с тобой свидеться. Любящий тебя Вик», — Корочкин положил письмо на стол. Что ж, все яснее ясного…
— Я поначалу растерялась, не поняла. Так он мне объяснил… Муж для меня — все! Понимаете? Вы не думайте, Вик в плен не сдавался. Он за десять дней до войны уехал в Германию, на стажировку, он врач!
— Не нужно оправдываться, — как можно мягче произнес Корочкин. — Я вам не судья.
— Я себе судья, — сказала она твердо. — Не время теперь причины искать и слова произносить, но я другой раз глядела на себя как бы со стороны и в изумление приходила: училась вроде как все, пионеркой была как все, и в комсомол вступила как многие, и работой общественной занималась, сколько раз аплодировали, в президиум избирали, а видите, как повернулось…
— Анфиса, я ведь сказал вам, что пятнадцать лет в тюрьме сидел, как мне разобраться? Ну и, кроме того… — Он помолчал. — Я ведь с ними… пришел.
Она взглянула на него, словно на стенку налетела:
— Извините, я как-то в толк не взяла… Вот второе письмо. Его уже эти принесли, — она вынула из-за отворота платья еще один мятый листок. «Анфиса, счастье мое, — прочитал Корочкин, — твое письмо получил, у меня все в порядке, не подведи, надеюсь на скорую встречу, целую, Вик». Он поднял глаза, Анфиса смотрела с нервным ожиданием, лицо у нее пошло красными пятнами.
— Любите его… — Он возвратил письмо и пожал плечами: — За что?
— Бог с вами… — растерялась она. — Разве любят… за что?
— Врач должен возвращать в строй раненых солдат, — тихо сказал Корочкин. — Или уж во всяком случае — не помогать…
У нее сузились зрачки.
— Вы не знаете… — прошипела она, как ощерившаяся кошка, — вы сами, сами!
— Да, — кивнул он, — я еще хуже. Только разница есть: большевики — мои заклятые враги, и я им не присягал!
Она сникла, съежилась, сказала сухо:
— Вы еще в предательстве оттенки находите… Бросьте. Предатель и есть предатель.