Элизабет Джордж - Ради Елены
У входа в его кабинет Глин остановилась. Энтони сгорбился над открытым ящиком шкафа. На полу лежало содержимое двух желто-коричневых папок, около тридцати карандашных набросков. И свернутый в трубочку кусок холста лежал неподалеку.
Энтони медленно листал рисунки, словно хотел их приласкать, потом стал смотреть на них более внимательно. Руки не слушались его. Он дважды ловил ртом воздух. Когда Энтони снял очки и протер стекла рубашкой, Глин поняла, что он плачет. Она вошла в кабинет рассмотреть поближе рисунки на полу и увидела, что везде изображена Елена.
«Наш папочка решил учиться рисовать», — рассказывала Елена.
Она произносила йисоватъ и смеялась при одной только мысли. Они вдвоем часто хихикали над тем, как он с нелепым в его возрасте энтузиазмом мечется между разными хобби. Сначала он бегал на длинные дистанции, потом занялся плаванием, потом помешался на велосипедах, наконец, увлекся парусным спортом. Но больше всего их поразило рисование. «Папотька йешил, што в нем сидит Ван Гог», — говорила Елена. Она изображала отца, который, расставив ноги, с альбомом в одной руке, сощурившись, смотрит вдаль и прикрывает глаза другой рукой. Елена подрисовывала себе усы на верхней губе и сосредоточенно хмурила лоб. «Глинни, падвинься ишо чуть-чуть, — приказывала она матери, — не шевелис. НЕ ШЕВЕЛИС». И вместе они падали со смеху.
Но рисунки оказались очень неплохими, Энтони они удались гораздо лучше, чем натюрморты на стенах в гостиной или эскизы парусников, лачуг и рыбацких деревенек на стенах кабинета. В этих лежащих на полу набросках он уловил неповторимый образ дочери. И ее наклон головы, ее чудесный взгляд, широкую щербатую улыбку, изгиб скулы, линию носа, рта. Всего лишь наброски, сиюминутные впечатления. Но наброски эти были хороши и искренни.
Глин подошла еще ближе, и Энтони поднял голову. Он собрал рисунки с пола и положил их на место. Кусок холста он засунул в самый конец ящика.
— Почему ты не оформишь их и не повесишь где-нибудь? — спросила Глин.
Энтони молча захлопнул ящик и подошел к столу, нервно пощелкал по клавиатуре, включил текстофон и уставился на экран. Выскочила строка меню. Энтони посмотрел на нее, но к клавиатуре не притронулся.
— Не волнуйся. Я знаю, почему ты их прячешь. —Она подошла сзади и на ухо проговорила: — И сколько лет ты так живешь, Энтони? Десять? Двенадцать? Как ты еще с ума не сошел?
Энтони опустил голову. Глядя на его затылок, Глин вдруг вспомнила, какие мягкие у него волосы, и, если их долго не стричь, они вьются, как у ребенка. Энтони начал седеть, в его черную шевелюру постепенно впрядались белые нити.
— Чего она хотела достичь? Ведь Елена была твоей дочерью. Единственным ребенком. На что она, черт возьми, надеялась?
Энтони ответил шепотом. Он будто обращался к тому, кого не было в комнате:
— Она хотела причинить мне боль. По-другому я бы не понял.
— Не понял? Чего?
— Что значит чувствовать опустошение. Потому что я опустошил ее. Трусостью. Эгоизмом. Эгоцентризмом. Но больше всего трусостью. Кафедра тебе нужна только для самоутверждения, говорила она. Ты хочешь красивый дом, чтобы в этом доме красивая жена и дочь были твоими марионетками. Чтобы люди смотрели на тебя, восхищались и завидовали. Чтобы люди говорили, как тебе повезло. Только у тебя этого нет. У тебя ничего нет. У тебя даже меньше, чем ничего. Вокруг тебя одна только ложь. А ты трусишь и закрываешь на это глаза.
Сердце Глин вдруг обхватило обручем, она поняла истинный смысл того, о чем так иносказательно говорит Энтони.
— Ты мог бы этому помешать. Дал бы ей то, чего она хотела. Энтони, ты мог ее остановить.
— Нет, не мог. Мне нужно было думать о Елене. Она наконец приехала в Кембридж, в этот дом, ко мне. Она начала меняться, вести себя свободней в моем присутствии, позволила мне быть ее отцом. Я не мог рисковать и терять ее снова. Не мог. Я думал, что потеряю ее, если…
— Ты уже потерял ее! — закричала Глин, тряхнув его за руку. — Елена больше не войдет в распахнутую дверь. Не скажет «Папочка, я все понимаю, я прощаю тебя, я знаю, что ты старался». Елены больше нет. Она умерла. А ты мог предотвратить ее смерть.
— Будь у Джастин ребенок, она поняла бы, что значит пребывание Елены здесь, почему я так дрожал при одной мысли, что сделаю что-нибудь не так и снова ее потеряю. Однажды я уже потерял ее. Я не выдержал бы этой муки во второй раз. Как Джастин могла ждать от меня такого?
Глин понимала, что Энтони разговаривает не с ней. Это были размышления вслух. Глин вдруг разозлилась на него так, как злилась в худшие годы их супружества, когда на его служебные достижения она отвечала своими собственными, когда она поджидала его по ночам, чтобы он понял, что ей есть чем заняться в его отсутствие, чтобы заметил синяки у нее на шее, груди и бедрах и хоть как-то на это прореагировал.
— Ты опять думал только о себе, — сказала Глин, — ты всегда думал о себе. Далее когда Елена приехала в Кембридж, ты воспринял это как подарок себе. Ты не думал о ее образовании, только бы тебе было приятно.
— Я хотел снова подарить ей жизнь. Я хотел, чтобы мы были вместе.
— Мало ли чего ты хотел. Ты не любил ее, Энтони. Ты любил только себя. Дорожил своей репутацией, добрым именем и своими успехами. Тебе нравилось быть любимым. Но ты сам никогда не любил ее. И теперь, когда Елены больше нет, ты винишь себя в ее смерти, копаешься в своих чувствах и размышляешь над тем, в каком свете это выставляет тебя. Но ты ничего не предпримешь, потому что боишься, как бы чего не вышло.
Энтони посмотрел на Глин. Веки его были красными и распухшими.
— Ты не знаешь, что случилось. Ты ничего не понимаешь.
— Я все прекрасно понимаю. Ты сейчас похоронишь мертвую дочь, залижешь раны и будешь дальше жить. Ты так и остался трусом, каким был пятнадцать лет назад. Ты предал ее тогда среди ночи. Ты предаешь ее сейчас. Потому что так проще всего.
— Я не предавал ее, — осторожно произнес Энтони, — в этот раз, Глин, я твердо стоял на своем. И поэтому она умерла.
— Из-за тебя умерла?
— Да. Из-за меня.
— Сколько я тебя знаю, ты всегда считал, что и солнце всходит и заходит только ради тебя.
— Однажды взошло, — покачал головой Энтони, — сейчас оно только садится.
Глава 21
Линли поставил «бентли» на свободное место у юго-западного угла кембриджского полицейского управления. Он задумчиво смотрел на еле различимые очертания стеклянной вывески у входа в здание и чувствовал пустоту внутри. Хейверс заерзала на сиденье. Она листала блокнот. Линли, не поворачиваясь, понял, что сержант читает показания Розалин Симпсон.
— Это была женщина, — сказала студентка Куинз-Колледжа.
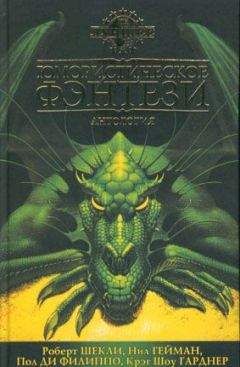
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
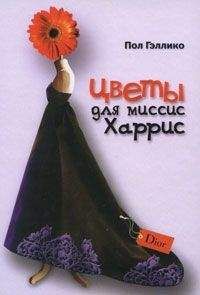

![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)