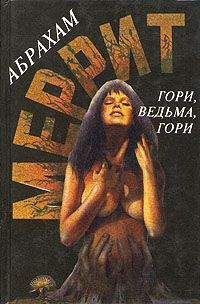Джон Карр - Огонь, гори!
— Но сейчас я тебе ничего не скажу. Я не стану тебя пугать; я ни за что на свете не захотел бы испугать тебя. А пока вот что. Мне велено раскрыть совершенно идиотское преступление в незнакомом месте, среди незнакомых людей. И мне нужна твоя помощь.
— Милый, разумеется, я тебе помогу! В чем дело? Чевиот объяснил суть своего задания.
— Да, все очень глупо! — сказал он, хотя Флора вовсе не считала происшествие глупым, раз оно касалось его. — Но я понимаю, почему для них так важно раскрыть дело. Даже тип, которого называют «герцог», кем бы он ни был, считает, что…
Стоп!
Чевиот замолчал как раз вовремя: завеса в мозгу приоткрылась и показала ему зияющую пропасть.
Как он мог забыть? «Герцогом» именовали премьер-министра, герцога Веллингтона. Несмотря на почтенный возраст — герцогу минуло шестьдесят лет, — ему хватило задора, чтобы в марте драться на дуэли с лордом Уинчилси.
(«Ну же, Хардинг, — сказал он своему секунданту, — смотрите в оба, да получше отмерьте расстояние. У меня нет времени, черт побери! Да не ставьте его рядом со сточной канавой. Если я в него попаду, он в нее свалится».)
Ворчливый голос, казалось, эхом отдается в ночи. Герцог, седовласый и носатый ворчун, в двадцатом веке был сердцем музея Апсли-Хаус. Он как будто вынырнул из небытия, таща за собой весь свой век, пока карета, скрипя и кренясь, ехала к дому леди Корк. Сэр Джордж Мюррей возглавлял министерство колоний; лорд Абердин являлся министром иностранных дел. И самое главное, министром внутренних дел был мистер Роберт Пиль.
Флора не заметила оплошности; как и всякая женщина, она пришла в восторг, услышав намек на какую-то тайну.
— Но почему?… — упорствовала она.
— Почему птичий корм? Не могу сказать. Больше ничего не украдено. Ты хорошо знакома с леди Корк?
— Очень хорошо. Слишком хорошо!
— Хм… Не является ли она… Как бы лучше выразиться? Нет ли у нее каких-либо эксцентричных привычек?
— Она не хуже многих. Она, конечно, очень стара; должно быть, ей давно перевалило за восемьдесят. И у нее свои причуды. Леди Корк будет в сотый раз рассказывать тебе, что говорил ей доктор Джонсон, когда она была девочкой, и что она ему ответила. Расскажет, как бедный Босуэлл напился пьяным с лордом Грэмом и, шатаясь, завалился на вечер, который устраивала ее мать, и отпускал самые неприличные замечания о дамах; а потом ему было так стыдно, что он посвятил ей целый сборник покаянных стихов. Она до сих пор хранит их в шкатулке сандалового дерева.
— Правда, правда! — воскликнул Чевиот, живо вспомнивший книгу Босуэлла. — Значит, в девичестве леди Корк звали мисс Мария Монктон?
— Да… Джек!
— Что, дорогая?
— Зачем ты притворялся, будто в жизни о ней не слыхал, ведь тебе известно ее имя? И ты стал таким нервным и напряженным, как будто… как будто ты отправляешься на казнь.
— Извини, Флора. Скажи, леди Корк держит в доме крупные суммы денег?
Флора отпрянула:
— Господи помилуй, нет! Да и зачем?
— У нее есть драгоценности?
— По-моему, есть немного. Но они хранятся в большой железной шкатулке в ее будуаре — розовом будуаре; и ключ от шкатулки только у нее одной. Но при чем здесь?…
— Погоди, погоди! Дай подумать! Ты знаешь ее горничную?
— Джек, перестань! С какой стати мне знать горничных моих знакомых?
Взгляд Чевиота оставался настолько требовательным, он так барабанил пальцами по колену, что Флора уступила.
— Правда, — сказала она, вскинув круглый подбородок, — я немного знакома с Соланж… Ну да, с ее горничной! Соланж часто ставит меня в неловкое положение, но она меня определенно обожает.
— Отлично, отлично! Она может нам пригодиться. И наконец, есть ли у леди Корк родственники? Дети? Племянники, племянницы? Близкие друзья?
— Ее муж, — отвечала Флора, — скончался более тридцати лет назад. Дети выросли и умерли. — Вдруг Флора порывисто схватила его за руку. — Не смейся над ней! — тихо попросила она. — Я знаю, другие хозяйки модных салонов высмеивают ее громкий голос и старомодные замашки. Но у кого еще хватит доброты устраивать бал для молодежи, когда сама она предпочитает чаепитие и тихую беседу о книгах? Молодые гости только бьют ее фарфор, пачкают ковры и царапают мебель. Не смейся над ней, Джек, прошу тебя, не надо.
— Обещаю, что не буду, Флора…
Во время поездки он часто бросал пытливые взгляды в окно кареты. Они уже некоторое время ехали в гору; дорога стала как будто шире и была лучше вымощена. Чевиот отодвинулся от Флоры, с громким стуком опустил правое окошко и высунул голову наружу. Но тут же влез обратно и обнял Флору за плечи.
— Послушай! — сказал он с напускной беззаботностью. — Я знаю, еще не существует ни Трафальгарской площади, ни колонны Нельсона, ни Национальной галереи. Но скажи на милость, где мы сейчас? Что это?
— Милый! Всего-навсего Риджент-стрит!
— Риджент-стрит. — Чевиот прижал ладони ко лбу и рассеянно продолжал: — Ах да. Значит, ее… уже проложили?
Карета круто повернула налево, на Нью-Берлингтон-стрит, и Чевиот увидел газовый свет, струящийся из окон, лишь наполовину закрытых шторами.
Он услышал пиликанье скрипок, надрывающихся в быстром танце. Спросил, что за танец исполняют гости. Флора сжалась в комок и забилась в угол. А когда карета остановилась, Чевиот беззвучно выругался.
Прежде всего он должен следить за тем, что и как говорит. Но близость Флоры была настолько привычна и даже в некотором смысле настолько уместна и правильна (интересно, почему?), что в ее присутствии он не трудился задумываться. Без нее он пропал.
— Флора, послушай, — проговорил Чевиот, переведя дух. — Я обещал не пугать тебя. Кажется, больше я ничего не сделал. — Тут в голосе Чевиота проступили вся его искренность и вся серьезность, на которые он только был способен. — Но все дело в том, что ты пока ничего не понимаешь. Когда я объясню то, что должен объяснить, ты поймешь меня и, уверен, посочувствуешь мне. А пока, дорогая моя, ты можешь меня простить? Можешь?
Флора смотрела на него, и выражение ее лица изменилось. Она нерешительно потянулась к нему. Он схватил ее, страстно поцеловал в губы… Над ними плясали и исчезали тени танцующих.
— Ты простишь меня? — снова спросил он. — Простишь?
— П-простить? — изумленно переспросила Флора. — Джек, но за что? Не мучай меня. Пожалуйста! Я этого не вынесу.
Не разглядев, а скорее угадав в темноте фигуру терпеливого кучера, готового распахнуть дверцу, Чевиот отпустил ее.
Флора поправила прическу, одернула платье, как будто находилась в карете одна. Однако щеки у нее порозовели, веки опустились, когда Чевиот спрыгнул на землю и помог ей выйти из кареты. Флора сунула ему в руку два пригласительных билета.