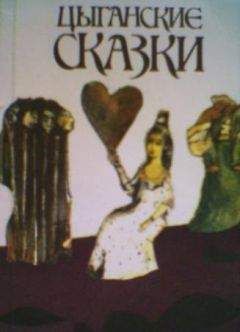Ефим Друц - Цыганские романы: Цыганский вор. Перстень с ликом Христа. Цыганский барон.
А детишки мои талантами в отца пошли. Федечка, тот с детства с гитарой ест и спит, да так хорошо играть научился, что любо-дорого. Ну а Гришенька, тот для меня как солнышко: везде идет со мной, улыбается, пляшет да песни поет. Бывало, все вместе выйдем — парни уже большие были, — они играют да поют, а я немного погадаю. Так не мне, а им денег и еды давали за радость, которую другим дарили, — давали на пропитание. Хоть и тяжело я жила, да счастлива была. Даже стала замечать я, что с возрастом — а было мне уже под сорок — легче мне без Лешего. Но, на беду мою, пришел как-то Леший в табор мрачный, побитый, да надолго и застрял. С того все и началось.
Давно он на Ристу поглядывал. Огонь-девка, красавица цыганка. Шальная да непокорная, на золото жадная, как и сам Леший. Я сразу их рядом поставила. Когда Риста совсем девочкой была, гадали мы с ней как-то вместе. Зашли в один дом, а там дурачок нас встречает и слюни пускает, аж испугалась я. Потом и мать его подошла и свою судьбу рассказывать стала. Муж, мол, погиб, а сын больной остался, ни уйти, ни подработать не может, так и перебиваются с хлеба на воду. Поговорила я с ней, пожалела ее, так мы с Ристой и ушли. А в таборе Риста смеется и показывает серьги и цепочку золотую, что у женщины этой украла. Я говорю ей:
— Зачем ты так? Ей и без того плохо.
А весь табор против меня — чужаков жалею. Леший меня тогда за волосы оттаскал — еле очнулась. Потом он все на Ристу поглядывал. А как подросла она, так и началось у них.
Он и раньше многих женщин брал, но как с Ристой связался, так сам не свой стал — ни я, ни дети, ни табор не нужны ему, только Ристу да деньги подавай. Уж как я горевала, как просила его. И в церковь ходила за него молиться, и Бога просила мне мужа вернуть, но ничего не помогало — все уходило от меня день за днем.
Надо сказать, что Риста под стать ему — жадная да гулящая, огневая, отчаянная. Но не пара она ему — не согреет, не приласкает, труды не снимет, детей не нарожает. Вот и пхури сказала, что меня эта цыганка погубит и Лешему счастья не даст. Знала я свою судьбу, а сделать ничего не могла. Мужик что лошадь: если сам в ярмо не впрягся — ничем его не удержать. А в какое ярмо можно Лешего впрягать, как удержать? Такой оглобли нет. Стали они вместе с Ристой из табора уходить да промышлять. Денег у Лешего много появилось, больше, чем когда со мной жил. Домой он теперь редко приходил: вернется, сыновьям гостинцев кинет и к ней опять, к Ристе. По табору идут, милуются да ругаются, а все равно видно, что счастлив Леший. Я тут — никто, и сыновья вроде бы не его. Изболелось сердце мое, высохла я вся, душа из меня уходить стала, а как жить без души — нет большего греха, чем живое тело без живой души, да что же мне делать — не вольна я в себе стала.
Тут и сыновья зароптали: Федька от ревности — он сам на Ристу поглядывал, а Гришка за меня переживал, все утешить меня старался, деньги добывал, приласкать меня хотел, все со мной да со мной, на цыганух и не смотрит. Я даже ругать его стала, мол, жениться пора, а ты все с матерью, за мою юбку держишься. Крепко переживал он, думал-думал, а потом и говорит как-то:
— Мать, я в город подамся, в ансамбле выступать буду. Только ты обещай мне, что скоро сама ко мне приедешь.
С тем и уехал сыночек мой ненаглядный. И совсем я одна осталась. Гришка далеко, Федька отдалился от меня, все делами своими занимается да помалкивает, Риста его глубоко задела, а Леший с Ристой живет, никого знать не хочет.
Что-то ведьминское в Ристе есть: она людей насквозь видит и еще сто метров под ними. И гадает: как глянет на человека, так все нутро и вывернет. Оттого и деньги гребет. А уж мужчин крутит — они очнуться не успевают.
Вот так. Да и плясунья она, надо сказать, отменная. Леший как с ума сошел, не отлипает от нее. Она и к другим цыганам уходила, и смеялась над ним, а он потемнеет, изобьет ее, а все равно к ней тянется. Колдунья, одним словом, окрутила она его. Ведь Марию он ни за что убил, а тут цыганка шалавая, что среди цыган редкость, и все ей с рук сходит. Отчаянностью берет. Они с Лешим как два костра — один вспыхнет, другой подхватит. Все Леший ради нее забыл: и меня, и детей, и даже о золоте стал поменьше думать. Только смотрит острым глазом, как бы Ристу кто не увел. Он Федьку через нее чуть не убил. Увидел раз, что они вместе стоят и чего-то там любезничают, подошел да так его огрел, что тот разом упал, а как вскочил… Да, это страшно было бы, если бы случилось. Потянулась Федькина рука к ножу и замерла на месте. Что тут было? Достань он нож да замахнись — убил бы его Леший разом, таков наш закон, шутка ли, на отца руку поднять, да Риста повисла на нем, так и обошлось. Уж как я просила Федьку ехать к Гришке в город, а он уперся: нет да нет, не поеду, говорит, так и остался подле Ристы своей. Вот и прошла черная тень между отцом и сыном.
А мне все равно стало — ни есть, ни пить не хочу. Мужа нет, дети выросли, думать не о ком. Старухой я за год стала. Ноги двигаться не хотят, зачем жить мне? В церковь пойду и жду: что Бог мне скажет, чем еще жить? А Бог все молчит, и в душе у меня все молчит, и лес молчит, и живого ничего во мне нет.
Грех самоубийства — самый большой грех. С чем я к Богу приду, что скажу? Одно сказать остается: «Боже, я не вынесла тех испытаний, что дал ты мне на земле», а он мне ответит: «Зачем же ты жила, ведь сын мой за вас вынес все на земле: и позор, и унижение, и смерть, а ты что же жизнь свою не прошла и мне ее неполной принесла?»
Что я ему отвечу? Нечего сказать мне. Только и оправдание, что сил больше жить у меня не осталось. Улетела душа моя, Господи, ушло счастье мое, растаяла любовь моя, исчезла, не видят глаза мои, не слышат уши мои, не поют губы мои. Что тебе, Господи, от человека, который ничему не радуется на этой земле? Стала задумываться я о самом страшном; а что страшнее всего — не знаешь, что там, когда жизни нет уже. Сам идешь на такое, сам своей рукой обрекаешь себя на муки. Ах, какая это боль!
Да ведь и жить незачем и стыдно. Бывало, сядем у костра. Все песни поют, едят, веселятся, а эти двое, Леший с Ристой, скандалят, скандалят, а потом глянут друг на друга да и сорвутся, в лес убегают, известное дело зачем. Я сижу ни жива ни мертва, а Федька глаза вытаращит и — со всего маху нож в дерево. Боюсь, как бы греха не вышло. Боюсь, а сделать ничего не могу, сил уже никаких нет. Жить не могу и смерти боюсь.
А что такое смерть? Главное — что навсегда отсюда уходишь, это и хорошо. Зачем на земле жить, чтобы так мучиться? Я иногда думаю, что там, наверху, где вечное блаженство и благодать, нет боли и горя, а чтобы иметь это знание, посылают нас сюда, на землю, чтобы и в блаженстве была печаль. И мою печаль не избыть. Стою я перед деревом и вижу, как тело мое качается, нет меня уже, а все вокруг есть. Вокруг все радуется, и снова с моей освобожденной душой заговорили птицы, деревья, травы, но печаль моя неизбывна, ибо умерший не от Бога, а от людей обречен скитаться возле земли, возле племени человеческого, и высшая радость ему недоступна. Печальный в жизни, печален и в смерти.