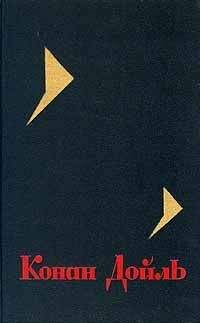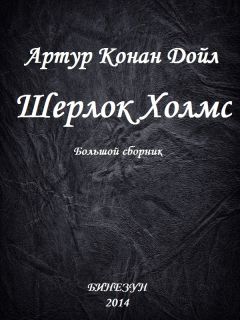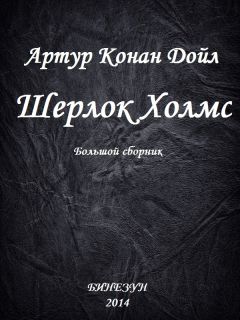Артур Дойль - Встать на четвереньки
Пёс уже давно выскочил наружу, заходясь яростным рыком. Увидев хозяина, он и вовсе будто озверел: рванулся с привязи, содрогаясь в конвульсиях. Профессор, не поднимаясь на две ноги, подобрался к собаке почти вплотную, но так, чтобы она не могла до него дотянуться. Скорчившись, подобно животному, рядом с беснующейся овчаркой, он принялся дразнить её. Подбирал с земли гравий и швырял его в пса, норовя попасть по уязвимому носу; тыкал собаку палкой; гримасничая, кривлялся прямо у разверстой собачьей пасти — словом, всеми силами старался распалить и без того неистовствующего пса, своего недавнего любимца. Сопровождая Холмса в его рискованных приключениях, я насмотрелся всякого, но не припомню более устрашающей картины, чем эта фигура, еще сохраняющая все признаки человеческого существа, по-обезьяньи беснующаяся перед разъяренным животным и осознанно, изощренно пытающаяся вызвать в нем еще большую ярость.
И в этот миг случилось непоправимое! Цепь выдержала, но овчарка сумела вывернуться из ошейника, рассчитанного на более мощную шею сторожевого пса. До нас донесся громкий лязг упавшего железа — в следующее мгновение собака и человек клубком покатились по земле, сплетясь в ближней схватке. Овчарка захлебывалась хриплым рычанием, а человек — неожиданно пронзительным визгом, полным звериного ужаса. Разъяренный пёс схватил своего хозяина за горло, изо всех сил стиснул челюсти — и профессор, мгновенно лишившись чувств, оказался буквально на краю гибели. Подбежав, мы бросились их растаскивать. Мы, конечно, здорово рисковали, но выручил Беннет. Одного его окрика оказалось достаточно, чтобы огромный пёс тут же угомонился.
На шум из конюшенных помещений выскочил ничего не понимающий со сна, испуганный кучер.
— Так и знал, что этим все кончится! — заявил он, узнав, что случилось. — Я ведь и прежде видел, какие штуки проделывает тут профессор, и был уверен, что в конце концов собака доберется до него.
Роя, без сопротивления с его стороны, снова посадили на цепь. А профессора мы отнесли в спальню, где Беннет, сам медик по образованию, помог мне наложить повязку на его глубоко прокушенную шею. Раны были достаточно серьезными: хотя клыки и не затронули сонной артерии, но все-таки Пресбери потерял много крови. Однако через полчаса опасность для жизни была ликвидирована. Я сделал раненому укол морфия — и он заснул глубоким сном.
И после этого — только тогда! — мы смогли посмотреть друг на друга и обсудить сложившуюся ситуацию.
— Мне кажется, его должен осмотреть первоклассный хирург, — заметил я.
— Нет, не дай бог! — возразил Беннет. — Пока лишь домашние знают, что случилось с профессором, история будет храниться в секрете. Но если это станет известно кому-то постороннему, начнутся толки и сплетни. Необходимо помнить о положении профессора в университете, о его европейской известности, да и о том, как воспримет такие пересуды его дочь.
— Вы абсолютно правы, — согласился Холмс. — Полагаю, сейчас, когда мы можем действовать свободно, у нас есть шанс избежать огласки и при этом исключить вероятность повторения нынешнего прискорбного случая. Мистер Беннет, возьмите, пожалуйста, этот ключ на цепочке. Макфейл проследит за больным и в случае чего известит нас, а мы отправимся поглядеть, что же лежит в загадочной шкатулке профессора.
Предметов там было немного, но чрезвычайно важных: пара флаконов, пустой и только-только начатый, а также шприц и несколько писем. Корявый почерк и крестики под марками свидетельствовали, что это именно те конверты, которые не должен был вскрывать секретарь. Отправителем всюду значился А. Дорак, проживающий на Коммершл-роуд; в основном это были извещения о том, что профессору Пресбери переслали новый флакон с препаратом, либо денежные расписки. Но нашелся все же и конверт с австрийской маркой, проштампованный в Праге и надписанный, судя по почерку, образованным человеком.
— Как раз то, что мы искали! — воскликнул Холмс и достал письмо из конверта.
«Уважаемый коллега! — с интересом прочитали мы. — После Вашего визита я немало размышлял над Вашими обстоятельствами. А они таковы, что у Вас просто нет иной возможности справиться с ними, не воспользовавшись моим средством. И все-таки убедительно прошу Вас быть внимательным при его приеме, поскольку должен с сожалением признать, что оно совсем не безопасно.
Наверное, мы допустили ошибку, взяв сыворотку большого лангура, а не какой-нибудь из человекообразных обезьян. Лангуром мы воспользовались, как я говорил Вам, лишь оттого, что иной возможности не было. Но это животное передвигается исключительно на четырех конечностях, к тому же обитает на деревьях, то есть является по преимуществу лазающим. В то время как у человекообразных есть по крайней мере склонность к двуногому наземному передвижению, да и по ряду других признаков они намного ближе к человеку.
Убедительно прошу Вас сохранять тайну о нашем эксперименте во избежание преждевременной огласки. В неё посвящен лишь один мой клиент — наш английский посредник А. Дорак.
Буду весьма признателен, если вы согласитесь еженедельно посылать мне свои отчеты.
С искренним уважением, Ваш Г. Левенштейн».Левенштейн! Увидев эту фамилию, я сразу же припомнил краткую газетную заметку об экспериментах мало кому известного ученого, который стремился раскрыть тайну омоложения и создания жизненного эликсира. Левенштейн, пражский ученый! Левенштейн — автор чудесной сыворотки, которая якобы дарует человеку небывалую силу, подвергшийся остракизму со стороны ученого мира за нежелание делиться секретом своего открытия…[1]
Я сообщил друзьям все, что удалось вспомнить об этом Левенштейне, а Беннет тут же отыскал на полке зоологический справочник.
— «Большой лангур, или хульман, — прочитал он, — крупная обезьяна, живущая в лесах на склонах Гималаев. Это самый крупный и близкий к человекообразным вид приматов из числа обитающих в Индии…»
Далее следовала масса уже чисто зоологических подробностей.
— Таким образом, мистер Холмс, — радостно заявил Беннет, — все выяснилось! С вашей помощью мы все-таки определили истоки зла!
— Подлинные истоки зла, — уточнил Холмс, — это, конечно же, запоздалая любовная страсть — и даже не сама по себе, а лишь вкупе с обуявшей пожилого профессора мыслью, что для исполнения всех его желаний требуется одна только молодость. А это, к сожалению, невозможно. Того, кто пытается освободить себя от подчинения законам природы, неизбежно ожидает беда. Даже лучший, умнейший представитель человеческого рода способен опуститься до уровня неразумной твари, если изберет иной путь, а не предначертанный ему природой…