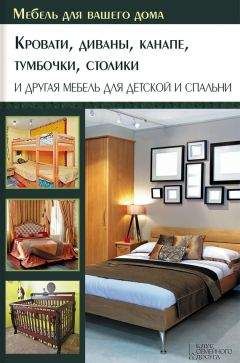Колин Декстер - Драгоценность, которая была нашей
После того как дело было сделано, Джанет стала с нетерпением ждать возвращения Эдди Стрэттона и, как только увидела его, сразу же увела от «Рэндольфа», передала Волверкотский Язык и ознакомила с тем, какое второе задание он должен выполнить теперь, полностью сделавшись связанным с ними сообщником, — ему предстояло избавиться от тела.
Марион Кемп (теперь следует пересказ показаний Стрэттона) впустила его в квартиру по Уотер-Итон-роуд, и он снял с трупа одежду — иначе нельзя было тащить тело и не испачкаться в крови. И… остальное теперь, в общем, известно. Для человека, привычного к такого рода посмертным процедурам, это не показалось чем-то неприятным. Он завернул одежду убитого в ковёр и сунул за короб вентиляции в бойлерной. А что же Марион Кемп? На протяжении всего происходящего она сидела в прихожей. В полном молчании.
— И очень волновалась, — предположил Морс.
— Ничего подобного, инспектор! — ответил Стрэттон.
Уйдя с Уотер-Итон-роуд, Стрэттон прошёл по Фёрст-Тёрн и Гуз-Грин до гостиницы «Форель» в Волверкоте, где выкинул Язык в реку, потом сел в автобус, идущий до Сент-Джилса, где повстречал миссис Уильямс.
Показания Шейлы не расходились с тем, что рассказал Стрэттон. Она пригласила Стрэттона к себе домой, и он принял приглашение. Ничего другого на свете не желая, как напиться до чёртиков, и обретя такого хорошего партнёра, Стрэттон истребил солидное количество «Гленфидича», — а потом на заплетающихся ногах часов в двенадцать вышел к вызванному Шейлой такси, плюхнулся в него и приехал в гостиницу…
Так выглядела в конце концов сложившаяся картина этого дела. Именно такую картину утром в пятницу на той же неделе Морс нарисовал суперинтенданту Стрейнджу, когда тот зашёл к нему в кабинет и уселся в первое подвернувшееся кресло.
— Только, Морс, без всякой вашей ерунды на постном масле! Берите быка за рога, мой мальчик! И покороче! У меня через полчаса ленч с начальником полиции.
— Передайте ему мои наилучшие пожелания, сэр.
— Не тяни давай!
Когда Морс закончил, Стрейндж выпрямился и посмотрел на часы.
— Наверное, она поразительная женщина.
— Так оно и есть, сэр. Думаю, Джанет Роско, возможно…
— Да при чём тут она, я говорю об этой Кемп — Марион, так, что ли? Разве не шли Олдричи на гигантский риск, ставя на неё? Я имею в виду, что они исходили из того, что она им подыграет?
— Ну, конечно. Но они же рисковали всё время, как настоящие игроки, и делали только самые отчаянные ставки.
— Вы только подумайте, Морс! Оставаться в этом доме… с окровавленным телом… в её спальне… в прихожей… ну, где-то там, я не знаю. Я бы не смог. А вы? Я бы просто с ума сошёл.
— Она просто не могла простить ему…
— Всё равно я бы сошёл с ума.
— Она таки покончила с собой, сэр, — медленно произнёс Морс, возможно, только сейчас начиная заглядывать в бездну отчаяния Марион.
— Да, покончила, Морс! Покончила!
Стрейндж снова посмотрел на часы и, вскинув голову с тяжёлым подбородком, поинтересовался:
— А что вас вывело на них? На Олдричей?
— Наверное, я должен был додуматься до этого гораздо раньше. Особенно после первых показаний Олдрича. Это относительно выдуманной им поездки в Лондон. Он написал их не задумываясь, на трёх страницах только три вычёркивания. Ах, если бы я обратил внимание на то, что он вычеркнул, вместо того, чтобы читать то, что осталось! Он писал, нервничая, страшно напрягаясь, и, если мне не изменяет память, вычеркнул вещи, вроде «мы могли бы сделать что-нибудь» и «наш телефонный номер». Он боялся, что может выдать себя, потому что писал, как женатый человек… Он и был женатый человек… Имелась и ещё зацепка. Он даже написал имя дочери — Пиппа, что, как вам, сэр, известно, сокращённое от Филиппы.
Стрейндж встал и натянул на себя тёплое зимнее пальто.
— Очень, очень неплохо поработала голова, Морс.
— Спасибо, сэр!
— Да я не о вас говорю! Я об этой Роско. Очень способная маленькая леди! Вы знаете, очень многие из них были маленькими — великие люди: Александр, Август, Аттила, Нельсон, Наполеон…
— Мне говорили, Брюкнер был очень небольшого роста, сэр.
— Кто?
Оба широко улыбнулись друг другу, и Стрейндж шагнул к двери.
— Ещё несколько деталей, Морс. Каким образом Джанет Роско избавилась от сумочки?
— Говорит, что повернула за угол, на Корнмаркет, и зашла в галантерейный магазин, а там сунула её в кучу выставленных на продажу сумок.
— А как с орудием убийства? Вы говорили, что не нашли его?
— Пока нет. Понимаете, она дошла до Радклиффской клиники, это так она показывает, и увидела объявление об амнистии — относительно того, что вы взяли и должны были вернуть: «Амнистия. Не задаём никаких вопросов». Она взяла и просто отдала палку.
— Так чего же вы её не забрали оттуда?
— Сержант Льюис ходил туда, сэр. Но в физиотерапевтическом отделении семьдесят одна палка.
— Ого!
— Хотите провести экспертизу палок?
— Выбросить деньги на ветер.
— То же сказал и сержант Льюис.
— Отличный работник Льюис!
— Прекрасный работник!
— Хотя и не так умён, как мадам Роско.
— Умнее не так просто найти, сэр.
— Вот бы такую нам в полицию.
— Ничего не выйдет, сэр. Вчера был медосмотр. Ей не осталось и двух недель.
— Любой врач, который говорит тебе, когда ты умрёшь, просто дурак!
— Только не этот, — тихо и с грустью проговорил Морс.
— Думаешь, что сумеешь заполучить эту драгоценность назад?
— Надеюсь, сэр. А вот они её не получат, так ведь?
— Повтори-ка ещё раз?
— Драгоценность, которая была их. Они никогда не получат её назад, согласны?
Показалось ли это Морсу? Секунду-другую ему почудилось, что на глазах Стрейнджа блеснула слеза. Но утверждать, что это было именно так, он не смог бы, потому что Стрейндж вдруг уставился на потёртый коврик у дверей, а потом отправился на ленч с главным констеблем.
Глава шестидесятая
Что же, прими эти жертвы! Обычаи древние дедов Нам заповедали их — в грустный помин мертвецам. Жаркой слезою моей они смочены, плачем последним. Здравствуй же, брат дорогой! Брат мой, навеки прощай!
Катулл, стих С1 (Перевод Адриана Пиотровского)Через неделю после встречи со Стрейнджем Морс вошёл в автобус, ходящий по маршруту северный Оксфорд — Корн-маркет. Он сумел выкроить два дня отпуска, перечитал «Холодный дом»[19], ещё раз прослушал (дважды) «Парсифаля»[20] и (хотя ни за что на свете в этом не признался бы) немного заскучал.