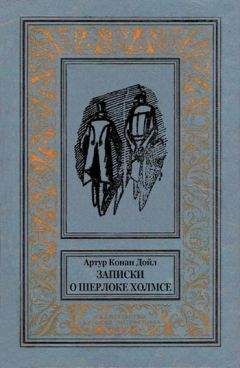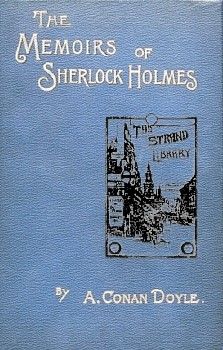Артур Конан Дойл - Записки о Шерлоке Холмсе
В холле горел цветной газовый рожок, но пламя было так сильно привернуто, что я мало что мог разглядеть — только, что холл довольно велик и увешан картинами. В тусклом свете я различил, что дверь нам открыл маленький, невзрачный человек средних лет с сутулыми плечами. Когда он повернулся к нам, отблеск света показал мне, что он в очках.
— Это мистер Мэлас, Гарольд? — спросил он.
— Да.
— Хорошо сработано! Очень хорошо! Надеюсь, вы на нас не в обиде, мистер Мэлас, — нам без вас никак не обойтись. Если вы будете вести себя с нами честно, вы не пожалеете, но если попробуете выкинуть какой-нибудь фокус, тогда… да поможет вам Бог!
Он говорил отрывисто, нервно перемежая речь смешком, но почему-то наводил на меня больше страха, чем тот, молодой.
— Что вам нужно от меня? — спросил я.
— Только, чтобы вы задали несколько вопросов одному джентльмену из Греции, нашему гостю, и перевели бы нам его ответы. Но ни полслова сверх того, что вам прикажут сказать, или… — снова нервный смешок, — …лучше б вам и вовсе не родиться на свет!
С этими словами он открыл дверь и провел нас в комнату, освещенную опять-таки только одной лампой с приспущенным огнем. Комната была, безусловно, очень большая, и то, как ноги мои утонули в ковре, едва я вступил в нее, говорило о ее богатом убранстве. Я видел урывками крытые бархатом кресла, высокий с белой мраморной доской камин и по одну его сторону — то, что показалось мне комплектом японских доспехов. Одно кресло стояло прямо под лампой, и пожилой господин молча указал мне на него. Молодой оставил нас, но тут же появился из другой двери, ведя с собой джентльмена в каком-то балахоне, медленно подвигавшегося к нам. Когда он вступил в круг тусклого света, я смог разглядеть его, и меня затрясло от ужаса, такой у него был вид. Он был мертвенно бледен и крайне истощен, его выкаченные глаза горели, как у человека, чей дух сильней его немощного тела. Но что потрясло меня даже больше, чем все признаки физического изнурения, — это то, что его лицо вдоль и поперек уродливо пересекали полосы пластыря и широкая наклейка из того же пластыря закрывала его рот.
«I was trilled with horror.»
— Есть у тебя грифельная доска, Гарольд? — крикнул старший, когда это странное существо не село, а скорее упало в кресло. — Руки ему развязали? Хорошо, дай ему карандаш. Вы будете задавать вопросы, мистер Мэлас, а он писать ответы. Спросите прежде всего, готов ли он подписать бумаги.
Глаза человека метнули огонь.
«Никогда», — написал он по-гречески на грифельной доске.
— Ни на каких условиях? — спросил я по приказу нашего тирана.
«Только если ее обвенчает в моем присутствии знакомый мне греческий священник».
Тот пожилой захихикал своим ядовитым смешком.
— Вы знаете, что вас ждет в таком случае?
«О себе я не думаю».
Я привожу вам образцы вопросов и ответов, составлявших наш полуустный-полуписьменный разговор. Снова и снова я должен был спрашивать, сдастся ли он и подпишет ли документ. Снова и снова я получал тот же негодующий ответ. Но вскоре мне пришла на ум счастливая мысль. Я стал к каждому вопросу прибавлять коротенькие фразы от себя — сперва совсем невинные, чтобы проверить, понимают ли хоть слово наши два свидетеля, а потом, убедившись, что на лицах у них ничего не отразилось, я повел более опасную игру. Наш разговор пошел примерно так:
— От такого упрямства вам добра не будет. Кто вы?!
— Мне все равно. В Лондоне я чужой.
— Вина за вашу судьбу падет на вашу собственную голову. Давно вы здесь?
— Пусть так. Три недели.
— Вашей эта собственность уже никогда не будет. Что они с вами делают?
— Но и негодяям она не достанется. Морят голодом.
— Подпишите бумаги, и вас выпустят на свободу. Что это за дом?
— Не подпишу никогда. Не знаю.
— Этим вы ей не оказываете услуги. Как вас зовут?
— Пусть она скажет мне это сама. Кратидес.
— Вы увидите ее, если подпишете. Откуда вы?
— Значит, я не увижу ее никогда. Из Афин.
Еще бы пять минут. Мистер Холмс, и я бы выведал всю историю у них под носом. Уже на моем следующем вопросе, возможно, дело разъяснилось бы, но в это мгновение открылась дверь, и в комнату вошла женщина. Я не мог ясно ее разглядеть и знаю только, что она высокая, изящная, с черными волосами и что на ней было что-то вроде широкого белого халата.
— Гарольд! — заговорила она по-английски, но с заметным акцентом. — Я здесь больше не выдержу. Так скучно, когда никого с тобой нет, кроме… Боже, это Паулос!
Последние слова она сказала по-гречески, и в тот же миг несчастный судорожным усилием сорвал пластырь с губ и с криком: «София! София!» — бросился ей на грудь. Однако их объятие длилось лишь одну секунду, потому что младший схватил женщину и вытолкнул из комнаты, в то время как старший без труда одолел свою изнуренную голодом жертву и уволок несчастного в другую дверь. На короткий миг я остался в комнате один. Я вскочил на ноги со смутной надеждой, что, возможно, как-нибудь, по каким-то признакам мне удастся разгадать, куда я попал. Но, к счастью, я еще ничего не предпринял, потому что, подняв голову, я увидел, что старший стоит в дверях и не сводит с меня глаз.
«Sophy! Sophy!»
— Вот и все, мистер Мэлас, — сказал он. — Вы видите, мы оказали вам доверие в некоем сугубо личном деле. Мы бы вас не побеспокоили, если бы не случилось так, что один наш друг, который знает по-гречески и начал вести для нас эти переговоры, не был вынужден вернуться на Восток. Мы оказались перед необходимостью найти кого-нибудь ему в замену и были счастливы узнать о таком одаренном переводчике, как вы.
Я поклонился.
— Здесь пять соверенов, — сказал он, подойдя ко мне, — гонорар, надеюсь, достаточный. Но запомните, — добавил он, и со смешком легонько похлопал меня по груди, — если вы хоть одной душе обмолвитесь о том, что увидели — хоть одной душе! — тогда… да помилует Бог вашу душу!
Не могу вам передать, какое отвращение и ужас внушал мне этот человек, такой жалкий с виду. Свет лампы падал теперь прямо на него, и я мог разглядеть его лучше. Желто-серое остренькое лицо и жидкая бороденка клином, точно из мочалы. Когда он говорил, то вытягивал шею вперед, и при этом губы и веки у него непрерывно подергивались, как если б он страдал пляской святого Витта. Мне невольно подумалось, что и этот странный, прерывистый смешок — тоже проявление какой-то нервной болезни. И все же лицо его было страшно — из-за серых, жестких, с холодным блеском глаз, затаивших в своей глубине злобную, неумолимую жестокость.