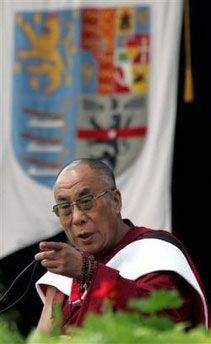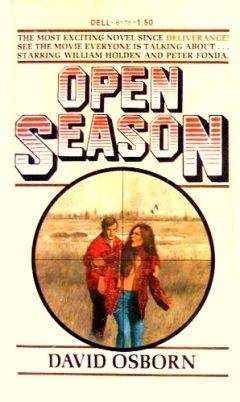Дэвид Осборн - Убийство на острове Марты
Моя дорогая Роза, я прошу у тебя прощения. Прими мою вечную любовь.
Твоя мать Грейс Чедвик».
Я возвратила письмо со словами:
— Мне нет нужды разглашать прочитанное. Никто никогда не узнает от меня об этом письме.
Благодарю вас, — сказала девушка. — Мне стало много легче от ваших слов.
Я думала о Розе, пытавшейся выкупить «Марч Хаус» и вернуть усадьбу Грейс, чтобы та сделала завещание на ее имя. Теперь ее побудительные мотивы прояснились. Я спросила:
— Роза никогда не намекала тебе на это?
Она засомневалась, потом сказала:
— В прямой форме нет. Но теперь, оглядываясь назад, я вижу много другого, помимо желания выкупить «Марч Хаус». Например, были сердитые высказывания по адресу «этой старой дуры», продавшей усадьбу Элджеру Микелю, тогда как раньше Роза практически не упоминала о Грейс. Затем мама начала делать попытки встретиться с Грейс, а та ее избегала, буквально доводя до бешенства. Тогда это казалось мне странным, но теперь я все понимаю.
— Наверное, ее ранило то, что Грейс не хотела общаться с ней напрямую?
— Ранило, говорите? Нет, я так не считаю, — раздумчиво сказала Эстелла. — Я не думаю, что Розу вообще могло что-то ранить. А вы как думаете? Только честно.
Вспомнив Розу, ее недалекость, ее стремление казаться светской львицей, я ничего не сказала, но про себя решила, что Эстелла, пожалуй, права.
Будто прочитав мои мысли, девушка сказала:
— Грейс, родившая Розу вне брака, не соответствовала ее представлениям о себе как о важной общественной деятельнице, подвизающейся в масштабах Острова, устраивающей приемы в саду и живущей на широкую ногу. Может, она и переживала раньше, но только не в последние годы, когда Грейс превратилась в эксцентричную затворницу. — Тут Эстелла улыбнулась. — Мне кажется, что я понимаю гораздо лучше, чем Роза, что довелось вынести Грейс. Отдать ребенка в чужие руки и все эти долгие тоскливые годы жить среди игрушек, постоянно напоминающих ей о дочери. Можете вы это понять до конца? Вероятно, она уже была наполовину сумасшедшей, но мне все равно безумно ее жаль. Может, это потому, что я сейчас в том возрасте, когда она родила.
«Или потому, что ты похожа на нее характером», — подумала я. Если кто-то и был ранен, так это она, Эстелла, а ранила ее собственная мать. Я пристально посмотрела на девушку. Было в ней какое-то новое для меня спокойствие. Может, произошел тот катаклизм, который я считала необходимым для ее исправления? Во мне появилась снисходительность к вызывающему поведению несносной девчонки, которую я была вынуждена «привести в чувство» и заставить дать необходимую мне информацию. Это было всего неделю назад. Если в ней и осталось что-то от прежней грубиянки, это не было заметно. Кто дал мне право судить ее так строго? — подумала я. Сомневаюсь, что я в ее возрасте была самой примерной дочерью. Меня коробит ее половая распущенность? Ну а что сказала бы моя мать, наверняка остававшаяся целомудренной до первой брачной ночи с моим отцом, если бы она узнала, что я потеряла невинность в семнадцать лет? Это произошло, когда меня отпустили одну кататься на лыжах в уик-энд. А через полгода я совершила, не делая из этого особого секрета, десятидневную поездку в Париж с женатым мужчиной, годящимся мне в отцы. Эстелла — такой же продукт окружающей среды: школа, кино, журналы, телевидение, — каким была я в ее годы, формируясь под влиянием других факторов.
— Какой помощи ты ждешь от меня? — спросила я.
— Я хочу знать ваше мнение касательно исполнения последней воли покойной: насколько это важно, особенно если ее трудно исполнить. Бабушка хотела, чтобы я взяла себе ее украшения, которые, она считает, не имеют большой цены, а также ценные бумаги, которые, как я подозреваю, стоят гораздо больше. Но это не суть важно, меня интересует не их стоимость. Главное то, что она хотела оставить их мне. Однако, если я пойду в полицию или заявлю свои права через адвоката, мне придется показать это письмо и открыть ее тайну. А если я поеду в усадьбу тайком, меня могут схватить и обвинить Бог знает в чем — в воровстве, например, или даже заподозрить во мне убийцу. Стоит ли последняя воля умершей такого риска?
Я представила в мыслях «Марч Хаус» и те опасности, которые могли в нем таиться. Эстелла не упомянула об убийце, я же не могла думать ни о чем другом. В любом случае исчезновение «Грейс» делало ситуацию еще более угрожающей. Когда там жила хозяйка, будь то настоящая или поддельная, по крайней мере было известно, что она там. А где она сейчас? И кто скрывается под ее личиной? Полиция, которая могла схватить нежданных гостей в «Марч Хаусе», представлялась мне гораздо менее опасной.
Все демоны вернулись вновь — все те страхи и весь ужас, которые я пережила в тот памятный мне день и во время ночных кошмаров. Я отогнала их, заставив себя думать только о последней воле умершей. Почему ее исполнение так уж обязательно? Выходит, желания покойного более важны для его близких, чем те, которые он выказывал при жизни? Я думаю, это потому, что в конце жизненного пути любой человек заслуживает какой-никакой награды, оценки, что ли. Умирающий должен знать, что все будет так, как того хочет он, и в кои-то веки радуется и успокаивается при мысли, что его вера в людей не будет обманута.
Я думала об этом, вспоминая Грейс Чедвик, бедную страдалицу, замурованную пожизненно в узком мещанском мирке, который уже отжил свое; жизнь была для нее сплошным беспросветным несчастьем, без радости, без награды. Я ответила Эстелле так:
— Чего бы она ни пожелала, это стоит риска. Ее волю надо исполнить.
Эстелла обратила на меня взор, исполненный невыразимого облегчения, ее глаза снова заблестели слезами. Она схватила меня за руку.
— О, благодарю вас, миссис Барлоу! Ваши слова так много для меня значат. Мне было необходимо убедиться, что я думаю правильно.
— Впрочем, я не знаю, как ты сможешь это сделать, — сказала я. — «Марч Хаус», конечно, заперт и надежно охраняется.
Эстелла весело рассмеялась.
— О, в этом можно не сомневаться: все двери и все окна заперты, на воротах и на парадной двери приклеены грозные предупреждения, написанные красными чернилами, и Отис Крэмм сидит в джипе, на подъезной дорожке. Но я уже все продумала. — Она вновь стала серьезной. — И тем не менее мне страшно. Нет, это не то, о чем думаете вы. Я не боюсь, что кто-то все еще шныряет вокруг усадьбы. Мне будет страшно открыть бабушкин сейф и забрать его содержимое. Это делает факт смерти непреложным, а смерть пугает меня.
— Она пугает каждого, — сказала я, вставая с места. — Итак, ты решилась?