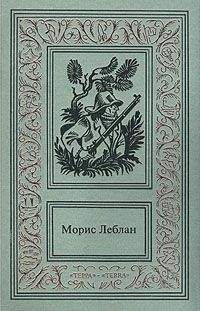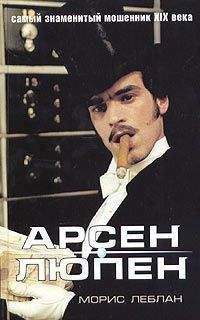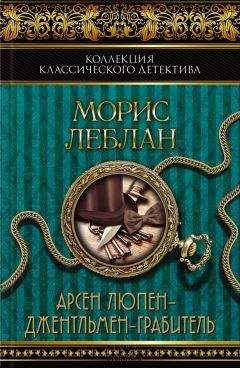Морис Леблан - Хрустальная пробка
Понятно теперь, почему три посланные ею в отель Франклин телеграммы остались без ответа. Во всем была видна рука Добрека. Он был всегда начеку, отделял ее от товарищей по борьбе и мало-помалу привел ее в эти четыре каменные стены. Она сознавала свое бессилие, свою полную зависимость от чудовища.
Надо было молчать и покоряться.
Он повторил со злобной радостью:
— Слушай, Кларисса. Ты должна непременно меня выслушать. Слушай хорошенько. Теперь полдень, а в два сорок восемь отходит последний поезд, ты слышишь, последний поезд, который может меня доставить в Париж еще во-время, чтобы спасти твоего сына. Все скорые поезда переполнены. Я вынужден выехать в два сорок восемь. Что же, ехать?
— Да.
— Спальные места для нас уже заказаны. Ты едешь со мной?
— Да.
— Тебе известны мои условия?
— Да.
— И ты согласна?
— Да.
— Ты будешь моей женой?
— Да.
Несчастная женщина отвечала в состоянии полного оцепенения, не пробуя даже вникать в смысл своих слов. Пусть он только уедет. Пусть только избавит Жильбера от плахи, этого кошмара, мучившего ее день и ночь. А потом… потом будь что будет.
Он рассмеялся.
— О, плутовка, сейчас ты готова на все, не правда ли? Самое главное — спасти Жильбера? А потом, когда по своей наивности Добрек предложит обвенчаться, не тут то было, от него отвернутся? Ну, однако, довольно пустых слов, обещаний, которых не исполняют… Перейдем к делу.
И, подсев совсем близко к ней, он ясно, раздельно произнес:
— Вот что я предлагаю, что должно быть… то будет… Я намерен просить, вернее требовать не помилования Жильбера, а отсрочки, отсрочки исполнения приговора на три-четыре недели. Уж там найдут какой-нибудь предлог. Меня это не касается. А когда госпожа Мержи переменит свое имя на имя Добрек, только тогда я буду хлопотать о помиловании, то есть о применении другой степени наказания. И будь спокойна, мне это удастся.
— Согласна… согласна… — пробормотала Кларисса.
Он снова засмеялся:
— Да, ты соглашаешься, потому что это произойдет через месяц, а к тому времени ты надеешься найти какой-нибудь выход, получить откуда-нибудь помощь, например, от Арсена Люпена.
— Клянусь головой моего сына.
— Головой твоего сына. Но, бедная моя крошка, ты готова пожертвовать собой за его жизнь?
— О да, — прошептала она, дрожа, — я с радостью продала бы свою душу…
Он прижался к ней и тихо сказал:
— Кларисса, я не души твоей прошу… Вот уже более двадцати лет моя жизнь наполнена любовью к тебе. Ты единственная женщина, которую я любил. Унижай меня, презирай, мне это безразлично… но не отталкивай меня… Ждать? Ждать еще целый месяц? Нет, Кларисса, слишком давно я жду…
Он осмелился взять ее за руку. Но она отдернула ее с таким отвращением, что он пришел в бешенство и воскликнул:
— Ах, клянусь Богом, красавица, что палач не станет нежничать, когда придет за твоим сыном. А ты ломаешься! Подумай только, что случится через сорок часов. А ты медлишь! Колеблешься, когда дело идет о твоем сыне! Ну, однако, нечего плакать и сентиментальничать… Смотри проще на вещи. Ты поклялась быть моей женой, отныне ты моя невеста… Кларисса, Кларисса, дай мне твои губы.
Она еще защищалась, отталкивая его, но силы оставляли ее. Добрек со свойственным ему цинизмом сыпал жестокие слова, впадая вдруг в страстный тон:
— Спаси своего сына… подумай о его последнем дне, его погребальном костюме, о рубашке, завязанной у ворота, о волосах, которые снимают перед казнью… Кларисса, Кларисса, я его спасу. Будь уверена. Вся моя жизнь будет принадлежать тебе, Кларисса.
Она не сопротивлялась больше. Все было кончено. Губы этого отвратительного человека должны были прикоснуться к ее губам, и так должно было быть, и ничто не могло отвратить неизбежного. Долг заставлял ее подчиниться судьбе. Она чувствовала это уже давно, теперь она убедилась. Чтобы не видеть противного лица, которое тянулось к ней, она закрыла глаза и повторяла:
— Сын мой, бедный сын мой…
Прошло секунд десять, двадцать может быть, Добрек не шевелился. Добрек замолчал.
Она удивилась наступившей тишине, его внезапному успокоению. Не заговорила ли в нем совесть в последнюю минуту?
Она открыла глаза. То, что представилось ее глазам, несказанно поразило ее. Вместо искаженного гримасами лица, которое она приготовилась увидеть, перед нею было неподвижное, неузнаваемое, выражающее крайний испуг лицо с глазами, скрытыми двойными очками, устремленными, казалось, выше нее, поверх кресла, в котором она лежала. Кларисса обернулась.
Два револьвера, правее и немного выше кресла, были направлены на Добрека. Она видела только эти два огромных и страшных револьвера, судорожно сжатых двумя руками. Она видела только их и Добрека, лицо которого от страха побледнело почти до синевы. И почти в то же время кто-то появился сзади Добрека, как будто вырос из-под земли, обхватил его шею с невероятной силой, повалил и быстро привязал к лицу маску из марли с ватой. По комнате тотчас же распространился запах хлороформа.
Кларисса узнала господина Николя.
— Ко мне, Гроньяр, Балу, — закричал он. — Оставьте револьверы. Я держу его. Теперь это просто тряпка… Вяжите его.
Добрек действительно склонялся и падал, как испорченная фигура бумажного паяца. От действия хлороформа ужасное стало безвредным и смешным.
Гроньяр и Балу завернули Добрека в одно из одеял и крепко перевязали.
— Есть, — воскликнул Люпен, поднявшись с пола одним прыжком.
И в приливе дикой радости он принялся посреди комнаты изображать канкан, матчиш, пируэты кружащегося дервиша и движения пьяницы. Перед каждым номером он объявлял как на сцене:
— Танец пленника. Фантазия на трупе народного избранника. Полька-хлороформ! Бостон побежденных очков. Ла! Ла! Фандангой предводителя. А теперь танец медведя. Потом тирольский, лаиту, лала… Марсельеза. Дзим, бум бум! дзим бум, бум!
Вся его природная живость, вся потребность в веселье, так долго сдерживаемая целым рядом неприятностей и неудач, вырвалась наружу безудержным смехом, детскими шалостями, шумом и криками. Он проделал последнее антраша в воздухе, прошелся колесом по комнате и, наконец, упершись руками в бока, поставил одну ногу на бесчувственное тело Добрека.
— Аллегория, — возвестил он, — добродетель поражает гидру порока.
Комичность положения проступала ярче и оттого, что Люпен не сбросил еще своей маски и костюма господина Николя, скромного, застенчивого репетитора.
Печальная улыбка появилась на лице госпожи Мержи, в первый раз за многие, многие месяцы, но тотчас же и пропала под влиянием ее вечной заботы.