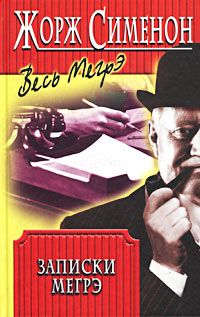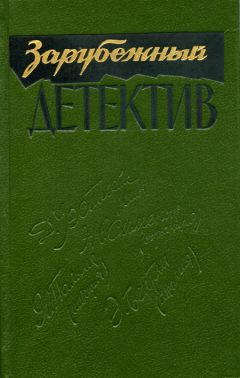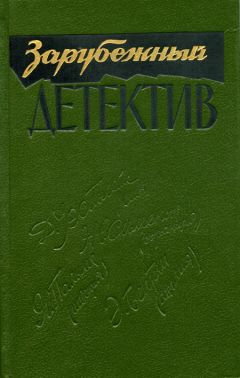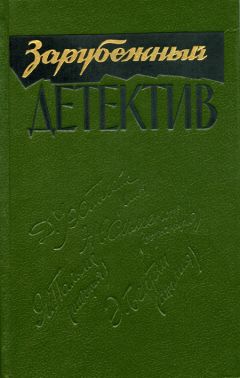Жорж Сименон - Сын
Это она придумала, каким образом нам встречаться в дни моих приездов в Ла-Рошель:
— Придется прибегнуть к помощи Шарлотты, отец ни за что не позволит мне выходить из дому без нее. Уж не знаю, как ей удалось внушить к себе такое доверие, — он верит всему, что бы она ни сказала, а меня всегда подозревает во лжи…
Мы уговорились встречаться по субботам в восемь часов на углу улицы, где жила Лотта, и в отсутствие Никола — он приезжал из Бордо не каждую неделю проводить вечера втроем.
Три недели спустя, возвращаясь около полуночи домой, я заметил свет под дверью кабинета отца и зашел к нему. Мы поговорили несколько минут, потом я сказал, стараясь, чтобы мои слова прозвучали как можно более легкомысленно:
— Знаешь, я, кажется, влюбился.
Он не удивился, не нахмурился, не улыбнулся, и это подбодрило меня, ибо больше всего я боялся его улыбки. Отец внимательно на меня посмотрел и — я и сейчас уверен в этом — понял, что я говорю серьезно.
— В Пуатье?
Я покачал головой.
— Здесь, в Ла-Рошели?
— Да. Она работает в префектуре.
Какую цель преследовал я этим признанием? Может быть, хотел придать значительность тому, что еще не было значительным, заручиться свидетелем, который помешал бы мне повернуть назад?
У меня отнюдь не было того победоносного вида, какой был у Никола, когда он рассказывал мне о Лотте. Я был весел, но и серьезен. И все же пока это было только игрой.
— Замечательная девушка, вот увидишь. Он, очевидно, мысленно перебирал всех девушек, служивших в префектуре:
— Надеюсь, это не мадмуазель Бароме?
— Я ее не знаю.
— Красивая брюнетка, лет двадцати пяти, корсиканка с усиками.
Мы оба посмеялись, — Нет. Может быть, ты ее не знаешь, она новенькая.
Работает в отделе у Ваше. Ее зовут Мод Шотар. Отец ничем не показал мне, что огорчен:
— Брюнеточка, только что из школы?
— Да.
— Ты встретил ее в городе? Вас познакомил кто-нибудь из твоих друзей?
— Да, Никола. Он любовник ее ближайшей подруги. Я нарочно сказал «любовник», чтобы отец понял, что я уже мужчина.
— А ты?
Я понял, о чем он спрашивает.
— Нет. Я — нет. — И прибавил:
— Она девственница.
— Смотри, будь осторожен.
— Я не собираюсь обижать ее. Я ее уважаю. Сказал ли я это для того, чтобы успокоить отца? Нет, я был искренен. Мне было важно, чтобы он знал правду. Он ничего больше не сказал, только повторил очень серьезно:
— Будь осторожен.
И какая-то новая нотка послышалась мне в его обычном:
— Спокойной ночи, сын.
Глава 8
Это были два самых значительных, самых содержательных, самых богатых года моей жизни, а я этого не сознавал и никогда бы в это не поверил, может быть, потому, что слишком велико было несоответствие между моими желаниями и действительностью.
Еще и сейчас меня приводит в бешенство извечный диалог между зрелыми и юными. Тебе он знаком. Я вижу, как ты тоже, едва он начинается, съеживаешься и недоверчиво прячешься в свою скорлупу.
— Сколько вам лет, молодой человек? Хочешь не хочешь, приходится отвечать — ведь нас учили быть вежливыми:
— Восемнадцать, мсье.
— Счастливец! — неизменно восклицает собеседник с наигранным добродушием. — Дорого бы я дал, чтоб быть в вашем возрасте… — И обычно насмешливо добавляет:
— И знать вдобавок то, что знают в моем.
Что знать? Что надежды и мечты не сбываются? Что действительность никогда не соответствует и не может соответствовать нашим представлениям о ней? Будто юные не познали этого на собственном опыте…
Толкуют о невинном возрасте, а между тем юноша мечется среди мучительных и неясных вопросов.
И дело не в прыщах, которые обнаруживаешь, бреясь, и которых стыдишься, как неизлечимого порока, не в костюмах, которые почему-то всегда не впору, не в больших ногах, которые не знаешь куда деть.
Жаждешь высокого, кажется, вот оно, рядом, сейчас коснешься его, но, едва протягиваешь к нему руку, какое-нибудь глупое табу, смешная нелепость или ироническая улыбка преграждает путь чистейшему порыву души.
Прошло несколько недель, и Мод, которую я встретил в столь пошлых обстоятельствах, что не мог без возмущения вспоминать об этом, — Мод стала «моей женой», и я уже не смел думать о ней иначе. Разве кто-нибудь мог это понять? В глазах Никола и Лотты, единственных, кто был посвящен в тайну, наши отношения ничем не отличались от их, разве что были более наивны, более сентиментальны.
Что думали о нас те, кто встречал в темных аллеях городского парка нескладного длинного юношу и тоненькую девочку? Сначала мы ходили рядом, не касаясь друг друга, потом — держась за руки и наконец — обнявшись: моя рука на ее талии, ее головка у моего плеча.
Обычная юная пара, как и все на свете влюбленные, которая ищет свободную скамейку, подальше от фонарей, чтобы целоваться, целоваться, пока не перехватит дыхание.
Но юные никогда не повторяют того, что однажды было, каждый начинает все сначала, будто до него никто не любил…
А отец, понимал ли он меня? Догадывался ли, почему мне было необходимо делиться с ним? Я хотел, чтобы кто-нибудь знал правду, знал, что это не случайный, мимолетный роман, что это на всю жизнь. Однажды вечером я ему сказал:
— Если бы мне пришлось отказаться от нее, я покончил бы с собой.
Еще так недавно наши короткие беседы велись совсем в ином, безразличном тоне! Мне вспоминаются эти недолгие разговоры, словно мимоходом брошенный в чужое окно взгляд, — например, когда в лицее проходили литературу XVIII века, я как-то упомянул об этом за столом. Вечером в своем кабинете отец спросил:
— Кто тебе больше нравится: Расин или Корнель? Я ответил не задумываясь:
— Корнель.
Это не удивило его, и я знаю теперь почему.
— А Мольер тебе нравится?
— Мы недавно читали в классе «Мещанина во дворянстве», и мне совсем не было смешно. И от «Лекаря поневоле» тоже.
Таков был, в общем, один из этапов наших отношений. Были и другие. Несколько позже мы говорили о Ламартине, о Викторе Пого, о школах романтизма, и я был поражен, обнаружив, что отец знает наизусть множество стихотворений Пого.
Отцу, должно быть, казалось — ведь с возрастом время летит все быстрее, что эти наши разговоры были только вчера. И вот приходит к нему уже взрослый юноша и объявляет, что скорей умрет, чем откажется от своей любви. У меня действительно сжимало горло, глаза блестели — я не лгал, я в самом деле не колеблясь и без сожалений убил бы себя.
Целые сутки я не прикасался к своим запискам, и так случилось, что как раз вчера у нас произошла бурная семейная сцена, при которых ты присутствуешь не так уж часто. Не стану воспроизводить ее целиком: она была нелепа, глупа и в то же время отвратительна, и если я все же пишу о ней, то только потому, что она лишний раз показывает отношение взрослых к молодым.