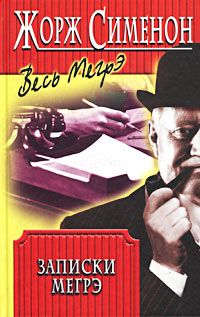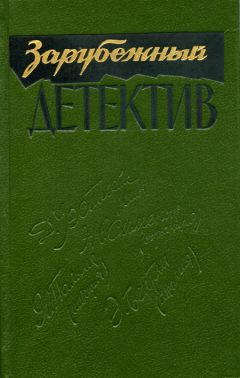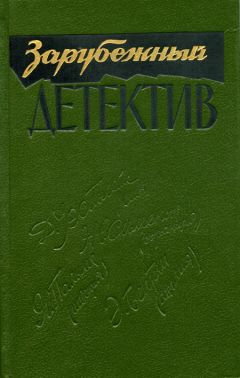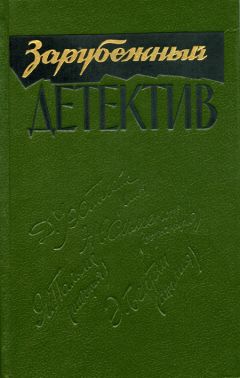Жорж Сименон - Грязь на снегу
Об этом он тоже много размышлял и ни о чем не жалеет. А если жалеет, то лишь об одном — что раскрыл рот и сказал:
— Я хотел бы…
Договорить он не успел. Пожилой господин сделал знак, и Франка повели через другой двор, вымощенный кирпичом, насколько он мог судить по расчищенным от снега дорожкам. Что он собирался сказать? Чего хотел?
Адвоката? Разумеется, нет. Он не настолько наивен. Снестись с матерью? Назвать фамилию генерала? Поставить в известность Тимо, Кромера или Ресля — тот ведь узнал его у Таста и помахал ему рукой?
Как замечательно, что он не закончил фразу! Надо отучаться от лишних слов.
Он еще не знал: все, что видишь вокруг, важно и с каждым днем будет становиться еще важнее.
Например, решаешь: «Это школа».
И в голове тут же складывается определенный образ.
А может случиться так, что мельчайшие его подробности приобретут чрезвычайное значение, и тогда начинаешь жалеть, почему не присмотрелся попристальней.
Большой двор кажется сейчас особенно просторным: он залит солнцем. Посредине вытянутое в длину трехэтажное здание из новенького кирпича, наверняка без внутренних лестниц, потому что снаружи оно, как корабль, опутано железными лестницами и своего рода подвесными галереями, по которым можно попасть на любой этаж, словно по судовым трапам из одного класса в другой.
А сколько здесь классов? Этого Франк не знает. У него просто создалось ощущение чего-то огромного. На другой стороне двора высится другое здание — то ли актовый, то ли спортивный зал с окнами во всю стену, как в церкви; оно напоминает Франку дубильную фабрику.
Дальше — крытая площадка, до самого навеса заваленная черными скамейками, партами и прочим школьным инвентарем: часть ее вот уже восемнадцать дней постоянно перед глазами у Франка.
Окна зарешечены, но все равно это не настоящая тюрьма. Охраны, можно сказать, не видно. Пересекая двор. Франк заметил всего-навсего двух солдат с автоматами.
Картина делается чуть более впечатляющей по ночам, когда подходы освещены прожекторами.
Ставней на окнах нет, и яркий свет то мешает заснуть, то заставляет вскакивать во время сна.
Конечно, раз часовые не мозолят глаза, значит, где-то на крыше, откуда бьют лучи прожекторов, должна быть сторожевая вышка с пулеметами и гранатометами. Недаром в определенные часы на лестнице, которая может вести только туда, раздаются шаги.
Как бы там ни было, по той или иной причине с ним, Франком, обращаются иначе, чем с обычным заключенным. Он не ошибся, когда отметил про себя вежливость — холодную, но все-таки вежливость! — пожилого господина в очках.
В камере справа минимум десять человек, иногда больше — тут не угадаешь: арестанты постоянно меняются.
Слева трое, возможно, четверо, причем один то ли болен, то ли помешался.
Помещение, где сидит Франк, не камера, а класс. Для чего оно служило, когда здесь была школа? Вероятно, для занятий по факультативам, на которые ходили только немногие выпускники. Для класса оно маловато, для камеры, да еще одиночной, — колоссально. Франка это стесняет: он не знает, куда себя деть. Постель тоже кажется слишком миниатюрной. Это старая армейская койка без пружинной сетки — ее заменяют доски. Матраца ему не дали. Он располагает лишь грубым серым одеялом» от которого разит дезинфекцией.
Это еще противней, чем если бы от него несло потом, хуже, чем если бы оно пропиталось запахами человеческого тела. Вонь от дезинфектантов наводит на мысль о трупе. Одеяло дезинфицируется лишь тогда, когда оно служило мертвецу. А в этой камере умирали. Некоторые надписи выскоблены особенно тщательно. Кое-где еще видны полустертые изображения знамен или сердец с инициалами под ними, как на деревьях за городом, но больше всего здесь продольных царапин, которыми отмечают дни, и поперечных черточек, которыми отмечают недели.
Франк с трудом отыскал чистое место для своих собственных отметок; скоро он процарапает третью поперечину.
На стук он не отвечает, даже не пробуя понять, что ему пытаются сообщить. Днем по галерее, время от времени прижимаясь лицом к стеклу, расхаживает солдат. Ночью шагов не слышно: тут уж полагаются на прожектора.
С наступлением темноты — а темнеет рано — поднимается форменная свистопляска. Гудит все — стены, трубы. Франк ничего не понимает в перестукивании, хотя, чтобы разобраться в нем, нужны лишь небольшое усилие да капля терпения — это вроде упрощенной азбуки Морзе.
Это его не интересует, и все. Он один, и тем лучше.
Ему оказали милость, дав остаться одному, и тут есть некий смысл. Если же это означает, что случай его особенно тяжелый — а он теперь достаточно опытен, чтобы об этом догадаться, — что ж, ему и отвечать.
Заключенных из камеры справа, куда постоянно приводят новых, расстреливают если уж не ежедневно, то несколько раз в неделю. Это камера для кого попало. Порой кажется, что жертв в нее черпают наудачу, как рыбу из садка.
Делается это перед рассветом. Удается ли обитателям камеры поспать? Часто далеко за полночь там кто-то всхлипывает, а то и громко кричит. Наверно, те, кто помоложе.
Потом во двор входят двое солдат, всегда двое, и шаги их раздаются на железной лестнице, затем на галерее. На первых порах Франк всякий раз спрашивал себя, — не его ли настала очередь. Теперь он и бровью не ведет. Шаги замирают у соседнего класса. Может быть, среди тех, кто там заперт, есть и такие, что учились в нем?
Все затягивают патриотическую песню, после чего в предутренних сумерках на дворе появляются расплывчатые фигуры солдат, впереди которых идут несколько узников.
Если так делают намеренно, надо признать: расчет точен. Час выбран так удачно, что Франк ни разу не сумел различить ни одного лица. Только силуэты. Люди шагают, заложив руки за спину, без пальто и шапок, несмотря на холод. Воротник пиджака обязательно поднят.
Их, должно быть, пропускают через последнюю канцелярию, потому что на какое-то время опять наступает тишина, а когда со двора снова доносятся шаги, уже рассветает. Происходит все это около крытой площадки. Франк мог бы разглядеть все в подробностях, находись его окно метра на два-три ближе, но он всегда видит только голову и грудь офицера, командующего экзекуционным взводом.
Он опять засыпает. Ему не мешают спать. Как обстоит на этот счет в других камерах — неизвестно. Вероятно, иначе: там шумят уже спозаранку. А его оставляют в покое до тех пор, пока не приносят завтрак: желудевый кофе без сахара и кусочек вязкого хлеба.
Вот ликовала бы эта корова Берта! Но Франк приспособился. Выпивает бурду до последней капли, съедает все без остатка. Он не позволит свалить себя с ног. У него с первого дня разработан свой план.