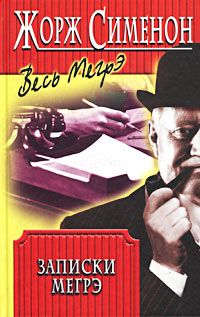Жорж Сименон - Окно в доме Руэ
Интересно, старая г-жа Руэ слышала невесткин автомобиль? Она зашевелилась. Сейчас позвонит.
Доминика тоже оживилась. Внезапно Руэ заворочался в постели, рот разинут, словно больной пытается и не может вздохнуть.
Опять приступ…
Это его обычное время. Приступы у него раза два в день, не реже; бывает и трижды, а как-то случилось шесть приступов кряду, и тогда больному весь день и добрую часть ночи меняли на груди пузыри со льдом.
Доминика непроизвольно шевелит рукой, словно хочет схватить некий предмет-флакон молочного цвета на столике у кровати больного.
Вот чего он ждет. Глаза у него открыты. Он никогда не был ни толстяком, ни здоровяком. Тусклый человечек, держится без малейшей рисовки, и во время их пышного венчания в церкви Сен-Филипп-дю-Руль все твердили, что они с молодой женой совершенно не подходят друг другу. У него бесцветные усы щеточкой, придающие ему еще большую заурядность.
Доминика готова поклясться, что он пристально смотрит на нее, но этого не может быть, потому что ставни почти прикрыты; она его видит, а он ее нет; он смотрит в пространство, ждет, надеется; его пальцы судорожно сжимаются в пустоте, кажется, он вот-вот привстанет, так и есть — привстал, вернее, пытается, но у него ничего не выходит, и вдруг он прижимает обе руки к груди, замирает, согнувшись пополам, не в силах шевельнуться, и лицо его искажено страхом смерти.
Доминика почти готова крикнуть Антуанетте Руэ, которая сейчас, вероятно, поднимается по лестнице, отворяет дверь в квартиру, снимает шляпку, зеленые перчатки: «Поторопитесь! У него приступ!»
И тут над ухом у нее привычный, а потому особенно отвратительный голос произносит:
— Дай мне чулки…
Доминика волей-неволей представляет себе голую, откормленную Лину — вот она сидит на кровати, свесив ноги, вся еще пропитанная резким мужским запахом.
Небо окрасилось в аспидный цвет, улицу наискось прорезала линия, отделяющая свет от тени, но даже на солнечной стороне в воздухе разлито нечто вязкое, липкое, поглощающее звук, и даже грохот автобуса долетает до слуха наподобие дальнего жужжания.
Стукнула дверь-это в ванной Альбер Кайль окончил свое омовение; слышно, как он бодро разгуливает взад и вперед, насвистывая танго, только что звучавшее на пластинке.
Антуанетта уже там. Доминика вздрогнула: она заметила Антуанетту случайно, скользнув взглядом не по окнам больного, а по соседнему окну — там у Руэ что-то вроде будуара, где Антуанетта, с тех пор как муж слег, велела поставить для себя постель.
Она стоит за дверью, разделяющей обе комнаты. Она уже без шляпы, без перчаток. Доминика не ошиблась — только почему Антуанетта замерла и словно чего-то ждет?
Можно подумать, что мать там, наверху, инстинктивно почуяла неладное.
Заметно, что она забеспокоилась. Кажется, она делает героические усилия, чтобы встать, но вот уже несколько месяцев она не может ходить без посторонней помощи. Она огромна. Сущая башня. Ноги у нее толстые, негнущиеся, как колонны. Когда изредка она покидает дом, требуются двое, чтобы водрузить ее в машину, а она всегда словно грозит им своей палкой с резиновым наконечником. Старухе Огюстине смотреть уже не на что, и она ушла от окна. Уж конечно, торчит теперь в длинном полутемном коридоре, в который выходят двери всех мансард, — караулит кого-нибудь, с кем бы поговорить. Она способна ждать вот так в засаде целый час, сложив руки на животе, похожая на чудовищного паука, и с ее мертвенно-бледной физиономии, обрамленной белоснежными прядями волос, не сходит выражение бесконечной кротости.
Почему Антуанетта Руэ застыла на месте? Взгляд ее мужа, устремленный в раскаленную пустоту, всеми силами взывает о помощи. Дважды, трижды Юбер закрывал рот, сжимал зубы, но больному так и не удалось вдохнуть глоток воздуха, который ему необходим.
И тут на Доминику нападает оцепенение. Кажется, ничто на свете не заставит ее шевельнуться, не исторгнет у нее ни звука. Она убеждена: разыгрывается драма, такая неожиданная и такая ощутимая, как если бы она сама, Доминика, была ее участницей.
Руэ обречен на смерть! Он умрет! Эти минуты, эти секунды, пока за стеной беспечно одеваются квартиранты, собираясь из дому, пока автобус меняет скорость, подъезжая к бульвару Османн, пока звякает колокольчик в молочной (Доминика так и не привыкла к этой фамилии Одбаль и произносит ее с запинкой, как неприличное слово), эти минуты, эти секунды — последние в жизни человека, чья жизнь годами протекала у нее на глазах.
Он никогда не был ей симпатичен. Хотя нет, все-таки был. Это очень сложно. И некрасиво. Сперва она сердилась на него за то, что он целиком подчинился жене, этой Антуанетте, чья жизненная хватка, чья вульгарная суета перевернула весь дом вверх дном.
Антуанетта позволяла себе все, что угодно. Он шел за ней покорно, как баран (кстати, есть в нем что-то баранье). К счастью, в дело вмешивалась старуха.
Она звонила.
— Попросите госпожу Руэ подняться ко мне!
И уж старуха-то в выражениях не стеснялась; она позволяла себе совсем другой тон, чем ее барашек сын, и щеки невестки розовели, багровели, а вернувшись к себе, она, чтобы успокоиться, яростно грозила кулаком.
— Тебя дрессируют, детка!
И тут барашек в глазах Доминики переставал быть барашком. Нет, сам-то он ничего не говорил! Он никогда не сердился. Уезжала ли она из дому хоть каждый день, возвращалась ли в машине, заваленной дорогостоящими покупками, щеголяла ли в вызывающих туалетах, — он не возражал, но Доминика понимала, что ему, как тем детям, что не умеют сами за себя постоять, достаточно заглянуть к матери. И тут уж он ровным голосом выкладывал все, глядя себе под ноги. Наверно, избегал чересчур энергичных выражений. Может быть, даже делал вид, будто выгораживает жену?
— Попросите вашу хозяйку ко мне подняться!
А теперь, в этот самый миг, Антуанетта его убивает! Доминика все видит.
Она тоже участвует в происходящем. Она знает. Она все знает. Она там, в постели, с умирающим, и в то же время она — Антуанетта…
… Антуанетта, которая, еще не остыв от жизни, кипящей там, за порогом, отворила дверь в квартиру, внезапно ощутила, как на плечи ей опустились холод этого дома, тишина, привычные запахи — в квартире у Руэ должно пахнуть чем-то пресным, с привкусом лекарств…
Кухонная дверь приоткрылась:
— Ах, вы вернулись, мадам… Я как раз шла посмотреть, как там хозяин…
И прислуга косится на будильник. Это значит, что Антуанетта опоздала, что настало время очередного приступа, время принимать лекарство, которое надо отмерять по каплям — пятнадцать капель — Доминике это известно, она столько раз их отсчитывала.
Антуанетта сняла шляпку перед зеркалом, которое вернуло ей ее отражение-лицо молодой элегантной женщины, пышущей жизнью; в тот же миг она услышала легкий шум, за ним еще один — это съежился в постели ее жалкий муж, прижав обе руки к сердцу, грозящему остановиться…