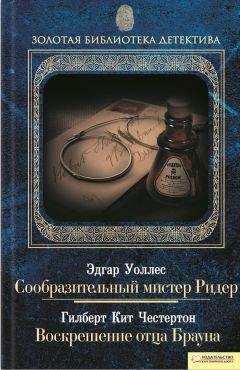Гилберт Честертон - Проклятие золотого креста
Я побежал, и мне показалось, что призрак впереди меня тоже побежал, но звук его шагов не повторял в точности звука моих шагов. Я опять остановился, и шаги впереди меня затихли, но я мог поклясться, что затихли они на мгновение позже. Я вопросительно крикнул и услышал ответ. Но это был не мой голос.
Звук доносился оттуда, где поворачивал кольцеобразный коридор; и за все время этой жуткой, таинственной гонки кто-то всегда останавливался и говорил на одном и том же расстоянии от меня, за поворотом каменной стены. Небольшое пространство впереди меня, освещаемое светом моего фонарика, всегда оставалось пустым, как пустая комната.
Вот при каких обстоятельствах я вел переговоры не знаю с кем, вплоть до того момента, когда забрезжил первый луч дневного света, но даже и тогда я не понял, каким образом тот человек выбрался наружу. Впрочем, там, где лабиринт выходил на поверхность, было много боковых отверстий, расселин и трещин, и ему нетрудно было, выкарабкавшись наружу, вновь нырнуть в одно из таких отверстий (и опять оказаться под землей. Как бы то ни было, выбравшись на поверхность, я оказался на одной из мраморных террас ступенчатого склона высокой горы. Островки растительности казались сочными, почти тропическими, на фоне идеально чистого камня, словно спорадические проявления восточного духа на склоне великой Эллинской цивилизации. Внизу простиралось голубовато-стальное море. Лучи слепящего солнца падали вниз на безлюдный и безмолвный мир. Ни самое легкое шевеление травы, ни самая слабая, призрачная тень не выдавали присутствия только что скрывшегося человека.
То был страшный диалог — и сближающий нас, и глубокий, и, в каком-то смысле, непосредственный. Некто, не имевший ни тела, ни лица, ни имени, называл меня по имени в этих каменных склепах и щелях, где мы были заживо похоронены, и говорил так спокойно, так бесстрастно, словно мы сидели друг против друга в мягких креслах какого-нибудь клуба. Он сказал мне тем не менее, что убьет меня или любого другого, кто взял этот крест со знаком рыбы. Он откровенно признался, что не настолько глуп, чтобы напасть на меня здесь, в лабиринте, зная, что у меня заряженный револьвер и шансы наши одинаковы. В той же бесстрастной манере он поведал мне, что составит план моего убийства, исключив возможность неудачи, равно как и опасность для себя лично, — составит его с искусством китайского ремесленника или японской вышивальщицы, вкладывающих все свое мастерство в то, что должно стать итогом их жизни.
И все же мой собеседник не был жителем Востока. Он был представителем белой расы и, подозреваю, моим соотечественником.
С тех пор время от времени я получаю странные анонимные письма, иногда обычные, иногда — в виде знаков и символов. Они убедили меня наконец, что если этот человек одержим манией, то, во всяком случае, это мономания. В письмах он всегда уверяет меня легко и бесстрастно, что приготовления к моей смерти и похоронам идут удовлетворительно и предотвратить их успешное завершение я могу лишь отказавшись от реликвии, от уникального креста, найденного в подземелье. Ни из чего не видно, чтобы автором владели религиозная сентиментальность или фанатизм. Похоже, что у него нет другой страсти, кроме страсти собирателя редкостей, и это одна из причин, по которой я заключаю, что он человек Запада, а не Востока. Как видно, эта страсть совершенно свела его с ума.
Затем пришло сообщение, пока еще не проверенное, о находке второго такого же креста на забальзамированном теле в сассекской гробнице.
Если считать, что до сих пор он был одержим одним бесом, то теперь в него вселились семеро. Сознание, что у кого-то, но не у него, есть эта редчайшая реликвия, он и ранее переносил с трудом, но весть о появлении второго обладателя сделало муку нестерпимой.
Безумные послания стали пространными и следовали одно за другим, как дождь отравленных стрел. В каждом последующем сильнее, чем в предыдущих, звучала истерическая угроза: смерть настигнет меня в тот момент, когда я протяну руку к кресту в гробнице.
«Вы никогда не узнаете, кто я, — писал он, — Вы никогда не произнесете моего имени; Вы никогда не увидите моего лица; Вы умрете, и никто не будет знать, кто убил Вас. Я могу быть кем угодно и в каком угодно обличье среди окружающих Вас людей, но я буду тем единственным, на кого не падет Ваше подозрение.»
Из этих угроз я заключил, что он, возможно, преследует меня в этом плавании, чтобы украсть реликвию или как-нибудь отомстить мне. Но так как я никогда не видел этого человека, логично подозревать почти каждого. Это может быть официант, который меня обслуживает, или любой из пассажиров, сидящих со мной за столом.
— Это может быть я, — сказал отец Браун, беззаботно нарушив грамматические правила.
— Это может быть кто угодно, кроме вас, — серьезно ответил Смейл. — Вот что я и хотел сказать вам. Вы — единственный человек, в котором я уверен.
От этих став отец Браун опять смутился. Затем он улыбнулся и сказал:
— Действительно, как ни странно, это не я. Нам нужно с вами обдумать, как установить, действительно ли он преследует вас, прежде чем… прежде чем он причинит какую-либо неприятность.
— Я думаю, есть только один способ, — грустно заметил профессор. — Как только мы прибудем в Саутгемптон, я сразу же возьму таксомотор, чтобы проехать по всему побережью. Я был бы вам признателен, если бы вы согласились сопровождать меня. Вся наша застольная компания должна разъехаться по своим делам. Если кого-то из них мы обнаружим во дворе сассекской церкви, то это и есть он.
Программа профессора была исполнена в точности, во всяком случае таксомотор наняли и разместили в нем груз, то есть отца Брауна. С одной стороны дороги, по которой они ехали, было море; с другой — холмы Хэмпшира и Сассекса. Никаких признаков преследования замечено не было.
По прибытии в Далэм им повстречался человек, имеющий некоторое отношение к делу. Это был журналист, который только что побывал в храме и кому священник любезно показал подземную часовню. Впечатления и замечания журналиста не поднимались выше обычного газетного репортажа. Однако воображение профессора было, вероятно, немного возбуждено, так как он не мог отделаться от впечатления, что в наружности и манерах журналиста есть что-то странное и не внушающее доверия. Это был высокий, неряшливо одетый человек с крючковатым носом, глубоко запавшими глазами и усами, свисающими по углам рта. В тот момент, когда его остановили расспросы наших путешественников, он стремительно уходил прочь, желая как можно скорее покинуть это место и только что осмотренные достопримечательности.
— Все дело в проклятии, — объяснил он, — место это проклято, если верить путеводителю, или священнику, или кому-то еще… И будьте уверены, здесь что-то неладно. Проклятие или не проклятие, но я рад убраться отсюда.