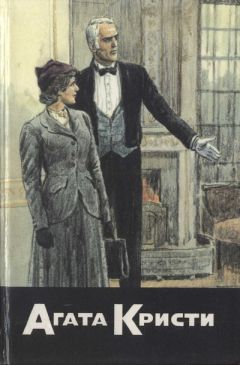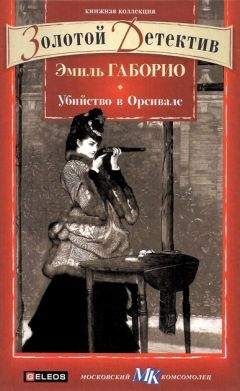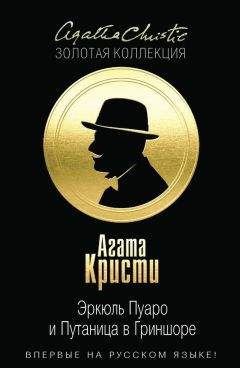Эмиль Габорио - Преступление в Орсивале
— А вот и они! — возвестил конюх, явно заинтригованный столь ранним визитом. — У них должен быть ключ.
Слуги, заметив людей у калитки, примолкли и ускорили шаг. Камердинер графа даже припустил рысцой, опередив остальных.
— Вы хотите поговорить с господином графом? — осведомился он, предварительно поздоровавшись с мэром и мировым судьей.
— Мы уже раз пять звонили изо всех сил, — сообщил мэр.
— Странно! — удивился камердинер. — У господина графа очень чуткий сон. Видимо, он вышел.
— Господи! — воскликнул Филипп. — Оба убиты!
Это восклицание несколько отрезвило слуг, чья веселость свидетельствовала о том, что за здоровье новобрачных было провозглашено немало тостов.
Г-н Куртуа, похоже, крайне внимательно следил за реакцией старика Берто.
— Убиты, — пробормотал камердинер. — Это из-за денег. Кто-то, видать, пронюхал…
— Что, что? — всполошился мэр.
— Вчера утром господин граф получил очень крупную сумму.
— Ага, очень! — вступила горничная. — Вот такую пачку банковских билетов. Мадам даже сказала хозяину, что из-за этой кучи денег она всю ночь не сомкнет глаз.
Воцарилось молчание, все испуганно переглядывались. Г-н Куртуа задумался.
— В котором часу вы вчера ушли? — спросил он у слуг.
— В восемь. Вчера даже ужин подали раньше.
— Ушли все вместе?
— Да, сударь.
— И не разлучались?
— Ни на одну минуту.
— И вернулись все вместе?
Слуги обменялись какими-то странными взглядами.
— Вместе, — ответила горничная, видимо отличавшаяся длинным языком. — То есть нет. Когда мы вышли на Лионском вокзале, Гепен отстал.
— Вот как?
— Да, сударь. Он сказал, что сходит по своим делам и встретится с нами в Батиньоле у Веплера, где праздновалась свадьба.
Мэр сильно толкнул локтем мирового судью, как бы призывая того быть начеку, и продолжил допрос:
— А потом вы видели этого Гепена?
— Нет, сударь. Я даже несколько раз за ночь интересовалась, не пришел ли он, потому что его отсутствие показалось мне подозрительным.
Горничная, очевидно, намеревалась продемонстрировать свою сверхъестественную проницательность; еще немного, и она заявила бы, что у нее были дурные предчувствия.
— Этот Гепен давно здесь служит? — прервал ее мэр.
— С весны.
— Чем он занимается?
— Его прислали из «Прилежного садовника», он ухаживал за редкими цветами в оранжерее мадам.
— А… про деньги он знал?
— Да! Да! — хором ответили слуги. — В людской о них было много разговоров.
— А Гепен, — ворвалась в разговор словоохотливая горничная, — прямо так и сказал мне: «Подумать только, у графа в секретере такие деньжищи, что нам всем хватило бы их до конца жизни».
— А что он за человек?
От этого вопроса языки у слуг словно присохли к небу. Все молчали, прекрасно понимая, что любое слово может послужить основанием для чудовищного обвинения.
Однако конюх из дома напротив, явно горевший желанием принять участие в разговоре, подобных опасений не испытывал.
— Гепен — отличный парень, а уж жизнь повидал… Господи, каких только историй от него не услышишь! Чего он только не испытал! Раньше вроде был богат, и если бы пожелал… Работа у него в руках горит, а уж гульнуть или там погонять шары на бильярде — другого такого не сыскать…
Невнимательно, вполуха слушая эти показания, а верней сказать — болтовню, папаша Планта сосредоточенно рассматривал ограду и калитку. Вдруг он повернулся и, к великому возмущению мэра, прервал конюха:
— Ну, хватит. Прежде чем продолжать допрос, неплохо бы посмотреть, что за преступление совершено, и совершено ли оно. Пока мы не имеем никаких доказательств этого. У кого из вас есть ключи?
Ключи были у камердинера, он открыл калитку, и все вошли во двор. Как раз появились и жандармы. Мэр велел бригадиру следовать за ним, а двоих поставил у ворот, приказав никого не впускать и не выпускать без его разрешения.
Только после этого камердинер отворил дверь дома.
II
Если даже в доме графа де Тремореля и не было совершено преступления, то явно случилось нечто из ряда вон выходящее; невозмутимый мировой судья понял это, едва переступив порог.
Стеклянная дверь в сад распахнута настежь, три стекла в ней разбиты.
Клеенчатая дорожка, соединяющая все двери, сорвана, кое-где на белых мраморных плитах запеклись капли крови. Самое большое пятно виднелось у лестницы, а на нижней ступеньке была какая-то омерзительная грязь.
Почтенный г-н Куртуа, не созданный для подобных зрелищ и миссии, какую ему предстояло исполнить, едва не упал в обморок. По счастью, чувство собственной значительности и важности придало ему энергию, в общем-то несвойственную его натуре. Чем трудней представлялось г-ну мэру расследование этого дела, тем сильней хотелось ему довести его до конца.
— Проводите нас к тому месту, где вы обнаружили труп, — приказал он Берто.
— Мне кажется, — вмешался папаша Планта, — что разумней и логичней было бы начать с осмотра дома.
— Пожалуй, да… Действительно, я и сам так подумал, — ухватился за этот совет г-н Куртуа, как утопающий хватается за соломинку.
Он велел оставаться на месте всем, кроме бригадира и камердинера, прихваченного в качестве проводника по дому.
— Жандармы! — крикнул напоследок г-н Куртуа стражам, стоящим у ворот. — Следите, чтобы никто не вышел отсюда, никого не впускайте в дом, а главное, в сад!
После этого поднялись наверх.
Вся лестница была в кровавых пятнах. Кровь была даже на перилах, и г-н Куртуа вдруг с ужасом обнаружил ее у себя на руке.
На площадке второго этажа мэр спросил камердинера:
— Скажите, мой друг, у ваших хозяев общая спальня?
— Да, сударь.
— А где она расположена?
— Здесь, сударь, — ответил камердинер и в страхе попятился, тыча пальцем в кровавый отпечаток ладони на верхней филенке двери.
На лбу у бедняги мэра выступили капли пота, он тоже испытывал ужас и едва держался на ногах. Увы, порою власть налагает на ее носителей тяжкое бремя. Бригадир, старый солдат, проделавший Крымскую кампанию[2], стоял в полной растерянности.
Один лишь папаша Планта был спокоен, словно у себя в саду, и хладнокровно поглядывал на остальных.
— Все-таки надо решиться, — вздохнул он и толкнул дверь.
В комнате, куда они вошли, ничего необычного не оказалось. Это был будуар — голубой атлас на стенах, диван и четыре кресла с одинаковой обивкой. Одно из кресел, опрокинутое, лежало на полу.
Следующей была спальня.