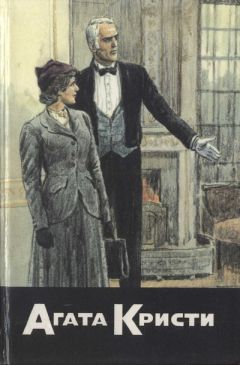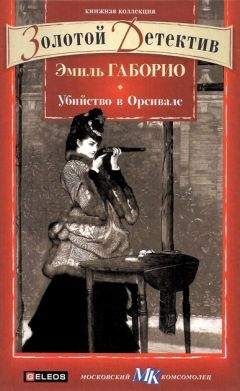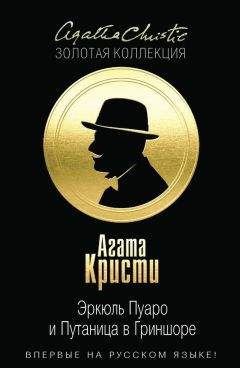Эмиль Габорио - Преступление в Орсивале
Уловив метод мирового судьи, он шаг за шагом проследил работу мысли этого столь изощренного наблюдателя и обнаружил в деле, которое представлялось г-ну Домини столь простым, множество осложнений. Его тонкий ум, привыкший распутывать клубок умозаключений, увязывал воедино все обстоятельства, обнаруженные днем, и, надо сказать, сыщик от души восхищался папашей Планта.
Глядя на портрет, он думал: «Вдвоем с этим хитрецом мы сумеем объяснить все». Однако и ему не хотелось ударить в грязь лицом.
— Сударь, — сказал он, — пока вы допрашивали этого прохвоста, который еще понадобится нам в дальнейшем, я тоже не терял времени зря. Я заглянул во все углы и нашел вот этот клочок бумаги.
— Ну?
— Это конверт от письма мадемуазель Лоранс. Вам известно, где живет тетка, к которой она поехала погостить?
— По-моему, в Фонтенбло.
— Ну вот, а на конверте парижский штемпель, почтовое отделение на улице Сен-Лазар; разумеется, штемпель еще ничего не доказывает…
— Тем не менее это какой-то след.
— Это еще не все. Я позволил себе прочесть письмо мадемуазель Лоранс — оно лежало на столе.
Папаша Планта невольно насупился.
— Да, — продолжал Лекок, — быть может, это было не совсем деликатно с моей стороны, но в конце концов цель оправдывает средства. Так вот, сударь, вы тоже читали это письмо и, вероятно, размышляли над ним, изучали почерк, вчитывались в каждое слово, исследовали построение фраз…
— А! — вскричал судья. — Значит, я не ошибся: вам пришла в голову та же мысль, что мне!
И, окрыленный надеждой, он схватил обе руки полицейского и сжал их, словно встретил старого друга.
Но тут послышались шаги на лестнице, и разговор их прервался. В дверях стоял доктор Жандрон.
— Куртуа засыпает, — сообщил он, — ему уже лучше. Надеюсь, все обойдется.
— Тогда мы здесь больше не нужны, — сказал мировой судья. — Пойдемте. Господин Лекок, должно быть, умирает от голода.
Он отдал кое-какие распоряжения слугам, ждавшим в вестибюле, и вышел, увлекая за собой обоих спутников.
Сыщик успел сунуть в карман письмо несчастной Лоранс и конверт от письма.
X
Дом орсивальского мирового судьи невелик и тесен — это дом мудреца.
Три просторные комнаты на первом этаже, четыре на втором, чердак и мансарды для слуг — только и всего. Все говорит о непритязательности человека, который, удалившись от житейских бурь, ушел в себя и давно уже перестал придавать какое бы то ни было значение окружающим его вещам. Некогда красивая мебель постепенно обветшала, протерлась и так и не была обновлена. Со шкафов отвалились резные украшения, часы остановились, сквозь продранную обшивку кресел лезет конский волос, гардины пятнами выцвели на солнце.
Только библиотека свидетельствует о каждодневных заботах ее хозяина. На прочных полках книжных шкафов из резного дуба стоят рядами тома, демонстрируя шагреневые корешки с золотым тиснением. На откидной доске у камина лежат любимые книги папаши Планта, молчаливые друзья его одиночества.
Единственная роскошь, которую позволил себе мировой судья, — это оранжерея, огромная, поистине королевская оранжерея, оснащенная всеми современными усовершенствованиями, какие только можно себе представить.
Здесь весною он высаживает в ящики с просеянной землей семена петунии. Здесь растут и благоденствуют представители экзотической флоры, которыми Лоранс любила украшать свои жардиньерки. Здесь цветут сто тридцать шесть видов дрока.
В доме живут еще двое слуг — вдова Пти, кухарка и экономка, и садовник от бога, отзывающийся на имя Луи.
Правда, шума от них немного, и дом не кажется оживленней, но это потому, что папаша Планта сам немногословен и не терпит пустой болтовни. Тишина здесь — закон.
О, поначалу для мадам Пти это было сущее мучение. Она по натуре болтлива, болтлива до того, что в дни, когда ей ни с кем не удавалось посудачить, она с отчаяния шла к исповеди: исповедаться — это ведь тоже возможность выговориться.
Раз двадцать она готова была бросить место, но всякий раз ее удерживала мысль о верном доходце, на три четверти честном и законном.
Дни шли за днями, и постепенно мадам Пти приучилась держать язык на привязи, свыклась с кладбищенским безмолвием.
Но бес свое возьмет. Мадам Пти отводила душу вне дома, наверстывала упущенное в обществе соседок. Нет, она недаром почиталась в Орсивале самой большой сплетницей и болтуньей. Про нее говорили, что языком она способна горы своротить.
Итак, вполне можно понять ярость мадам Пти в тот роковой день, когда убили графа и графиню де Треморель.
В одиннадцать, сбегав разузнать о новостях, она приготовила завтрак, но хозяина не было.
Она ждала час, два, пять и все держала на очаге воду для яиц всмятку, но хозяина не было.
Тогда она решила послать на розыски Луи, но тот, погруженный, как все исследователи, в собственные мысли, и начисто лишенный любопытства, предложил ей сходить самой.
В довершение же всего дом осаждали соседки, которые, полагая, что мадам Пти все известно, жаждали новых сведений. А какие сведения она могла им сообщить?
В пятом часу, решительно отказавшись от приготовления завтрака, она принялась стряпать обед. Но, увы! На новой орсивальской колокольне пробило восемь, а хозяин не возвращался.
В девять, совершенно, по ее выражению, изведясь, она грызла в кухне Луи, который только что полил сад и теперь, не обращая на нее внимания, молча хлебал суп из тарелки. И тут прозвенел звонок.
— Наконец-то явился! — воскликнула мадам Пти. Но это был не хозяин, а какой-то мальчишка лет двенадцати, которого мировой судья прислал из «Тенистого дола» предупредить мадам Пти, что он пригласил на ужин двух гостей, которые останутся ночевать.
От такого известия экономка-кухарка чуть не лишилась чувств.
За пять лет папаша Планта впервые пригласил гостей на ужин. За этим приглашением явно кроется нечто необычное. И раздражение, и любопытство мадам Пти, можно сказать, удвоились.
— В такой поздний час заказывать ужин! — ворчала она. — Да о чем он думает? — Но тут же, сообразив, что время не терпит, она напустилась на Луи: — Ты что сидишь сложа руки? Ну-ка, быстренько сверни головы трем цыплятам, посмотри, не поспели ли в оранжерее хоть несколько кистей винограда, и принеси из подвала варенья!
Приготовление ужина было в самом разгаре, когда раздался новый звонок.
На сей раз пришел Батист, слуга мэра. Он держал в руках саквояж Лекока и был в весьма скверном расположении духа.
— Примите. Это велел принести сюда субъект, который с вашим хозяином.