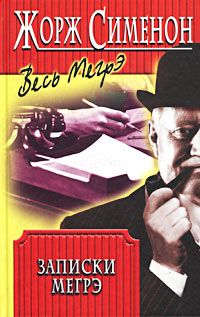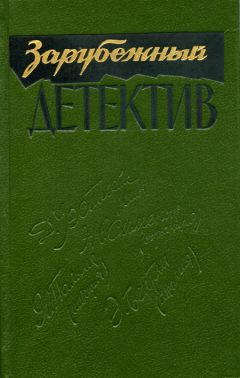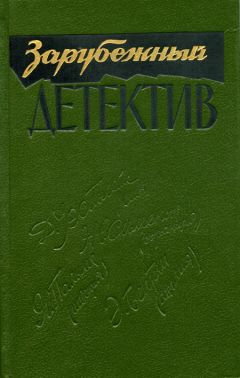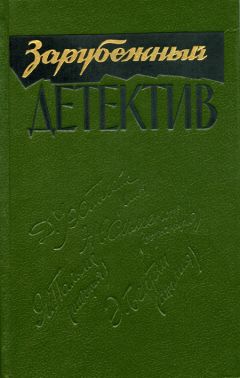Жорж Сименон - У фламандцев
— Сегодня вечером… Я ведь не рантье… Кроме того, я женат и моя жена уже теряет терпение.
— А инспектор Машер?
В лавке зазвенел звонок. Послышались торопливые шаги, затем стук в дверь.
Это был сам Машер, очень возбужденный.
— Комиссар здесь?
Он не сразу увидел Мегрэ, удивленный тем, что попал на семейное сборище.
— Что случилось?
— Мне нужно поговорить с вами.
— Вы позволите?
И Мегрэ, пройдя вместе с инспектором в магазин, облокотился о прилавок.
— Как мне отвратительны эти люди!
Машер, сморщившись, указал подбородком на дверь столовой.
— Один только запах их кофе и их пудинга…
— Ты это и хотел мне сказать?
— Нет. У меня есть новости из Брюсселя. Поезд пришел туда по расписанию.
— Но речника там не было?
— Вы это уже знали?
— Я это подозревал. Ты что, считаешь его идиотом?
А я нет. Он, должно быть, вышел на какой-нибудь маленькой станции, сел на другой поезд, потом опять пересел… Сегодня вечером он, может быть, будет в Дании. Или в другом месте… Может быть, даже в Париже.
Но Машер смотрел на комиссара, усмехаясь:
— Если бы у него были деньги!
— Ты что имеешь в виду?
— Да я все проверил. Этого человека зовут Кассен. Вчера утром он не мог заплатить по своему счету в бистро и ему отказались налить вина… Более того… Он всем был должен… Вплоть до того, что лавочники решили не допустить, чтобы его баржа ушла отсюда…
Мегрэ смотрел на своего коллегу с равнодушным видом.
— Ну и что?
— Я этим не ограничился. И мне было нелегко, потому что многих не оказалось дома… Я даже ходил в кино, чтобы кое-кого расспросить.
Мегрэ, покуривая трубку, забавлялся тем, что ставил гири на обе чаши весов, пытаясь добиться равновесия.
— Я выяснил, что Жерар Пьедбёф вчера занял две тысячи франков, поставив в виде гарантии подпись своего отца, потому что никто не соглашался дать ему денег, если подпишется он сам.
— И он встретился с речником?
— В том-то и дело! Один таможенник видел, как Жерар Пьедбёф и Кассен шли вдвоем по берегу, недалеко от большой таможни.
— В котором часу?
— Около двух…
— Отлично!
— Что отлично? Если Пьедбёф дал Кассену денег…
— Осторожнее с выводами, Машер! Ведь так опасно делать заключения…
— Во всяком случае, человек, у которого утром не было ни гроша, уехал с поездом, отошедшим после полудня, и с деньгами в кармане. Я был на вокзале. Он платил за свой билет тысячефранковой ассигнацией.
Видимо, у него были еще и другие.
— Или еще одна?
— Может быть, несколько, может быть, одна… Что бы вы сделали на моем месте?
— Я?
— Да.
Мегрэ вздохнул, постучал трубкой о каблук, показал на дверь столовой.
— Я пошел бы выпить рюмку можжевеловой… Тем более что нам поиграют на рояле!
— Это все, что…
— Ну пойдем… Тебе ведь нечего делать в городе в такое время. Где Жерар Пьедбёф?
— В кино «Скала» с одной фабричной работницей.
— Бьюсь об заклад, что они взяли ложу!
И Мегрэ с беззвучным смехом подтолкнул своего коллегу к столовой, где контуры предметов начали уже расплываться в сумерках. От кресла Ван де Веерта медленно поднималась струйка дыма. Мадам Питере убирала в кухне посуду, Маргарита сидела за роялем и меланхолично перебирала пальцами клавиши.
— Вы и в самом деле хотите, чтобы я играла?
— Да, я очень хотел бы… Сядь сюда, Машер…
Жозеф стоял, облокотившись на камин, устремив взгляд на затуманенное окно.
Зима пройдет,
И весна промелькнет,
И весна промелькнет.
Увянут цветы,
Снегом их занесет,
Снегом их занесет…
Маргарита пела нетвердым голосом. Больших усилий ей стоило дойти до конца. Два раза она ошибалась в аккордах.
Но ты ко мне вернешься,
Мой дорогой жених,
И будешь ты со мной.
Анны уже не было в комнате. Ее не было и в кухне, где мадам Питере ходила взад и вперед, стараясь поменьше шуметь, чтобы не помешать пению.
Я сердце тебе отдала…
Маргарите не виден был мрачный силуэт Жозефа, который погасил свою сигарету.
Теперь, когда уже совсем стемнело, огонь горящих брикетов отбрасывал пурпурные отблески на все окружающее, в особенности на полированные ножки стола.
К великому удивлению Машера, который не смел двинуться с места, Мегрэ вышел так тихо, что этого никто не заметил. Он поднялся по лестнице, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна ступенька, и очутился перед двумя закрытыми дверями.
На площадке была почти полная темнота. Только фарфоровые ручки дверей образовали два пятна молочного цвета.
Наконец комиссар положил непогасшую трубку в карман, повернул одну из ручек, вошел и закрыл за собой дверь.
Анна была здесь. Из-за задернутых занавесок в спальне было темнее, чем в столовой. В воздухе словно плавала серая пыль, которая местами, например в углах, была гуще, чем посередине.
Анна не двигалась. Неужели она ничего не слышала?
Она стояла у окна, против света, повернув лицо к закатному пейзажу Мёзы. На другом берегу уже зажгли фонари, которые пронизывали сумерки своими острыми лучами.
Глядя на нее со спины, можно было подумать, что Анна плачет. Она была высокого роста и казалась более мощной, более «скульптурной», чем когда-либо.
А ее серое платье буквально растворялось в окружавшей ее темноте.
Одна дощечка паркета, одна-единственная, заскрипела, когда Мегрэ был уже на расстоянии одного шага от девушки, но она не вздрогнула.
Тогда он с удивительной мягкостью положил ей руку на плечо и вздохнул, как человек, который может наконец говорить откровенно.
— Ну вот!
Она повернулась к нему всем телом. Она была спокойна. Ни одна морщинка не нарушала строгой гармонии ее лица.
Только на шее медленно, под действием какого-то таинственного внутреннего давления, чуть-чуть вздулась жилка.
Звуки рояля явственно доносились сюда, и можно было различить все слова «Песни Сольвейг»:
И ты ко мне вернешься,
Мой дорогой жених,
И будешь ты со мной…
И два светлых глаза искали глаза Мегрэ, в то время как губы, чуть было не раскрывшись в рыдании, застыли и окаменели, как и все ее существо.
Глава 10
«Песня Сольвейг»
— Что вы здесь делаете?
Странная вещь, ее тон не был агрессивным. Анна смотрела на Мегрэ со страхом, может быть, даже с ужасом, но не с ненавистью.
— Вы слышали, что я сейчас сказал? Сегодня вечером я уезжаю. Мы с вами прожили несколько дней в Довольно тесной близости…
И он смотрел вокруг, на кровати двух девушек, на шкуру белого медведя, служившую им ковром, на обои в розовых цветочках, на зеркальный шкаф, в котором теперь отражались только ночные тени.