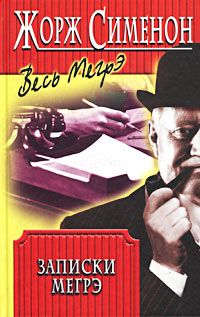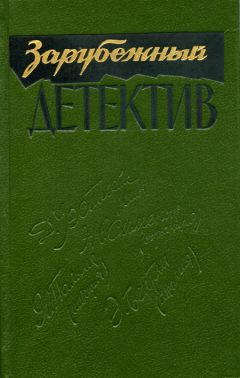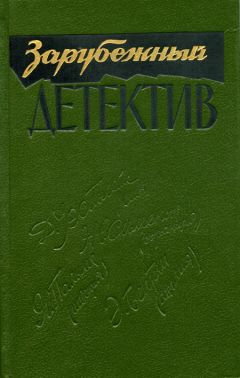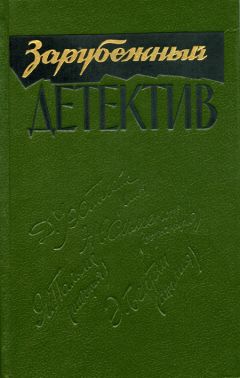Жорж Сименон - Малампэн
Тетя жаловалась – я узнал это от Гильома, – что ее сестра Ева плохо воспитана, надоедлива и что из-за нее, из-за ее халатов и сигарет, весь город сплетничает о них.
Не знаю, сколько недель они прожили вместе в большом доме, полном вещей, накопленных понемногу поколениями Тессонов. Однажды Ева имела наглость пригласить своего майора без разрешения сестры. Элиза обнаружила их обоих за столом, вернувшись из церкви – теперь она посещала церковь усерднее, чем прежде. Началась бурная сцена; были произнесены нецензурные ругательства, и Еву вместе с майором выставили за дверь.
Чувствовал ли я, что уже почти не принадлежу к дому, к семье? В своей памяти я нахожу только серые тона, словно воспоминание о пустых часах, проведенных в зале ожидания.
Много говорили о деньгах. Может быть, раньше это случалось часто? Весьма вероятно, если учесть положение моих родителей, которые затеяли дела не по своим средствам. Но теперь я навострил уши. Слово «деньги» приобрело новый смысл, и я каждый раз вздрагивал, когда заговаривали о них.
Несколько раз на машине приезжал какой-то делец из Ниора; он свободно и снисходительно разговаривал с моими родителями, тогда как они рассыпались в любезностях. Нуждались ли они в новом займе?
Моя мать не изменилась. Она никогда не менялась. Никогда – ни у нас, ни у нее на улице Шампионне – обед не опаздывал даже на пять минут. Она всегда была занята коровами и уборкой, но каждую субботу в четыре часа грели воду для нашей ванны; по воскресеньям в духовке жарилась курица.
Отец был более нейтральный, более тусклый. Он больше не разговаривал ни с братом, ни со мной. Он совсем перестал заниматься нами. Мы больше не ездили по воскресеньям в Сен-Жан-д'Анжели, и каждую неделю воскресный день становился все скучнее. Мне надевали хороший костюм из принципа. Но что мне было делать?
– Иди играть на улицу...
Я слонялся перед домом, на краю дороги, боясь испачкаться. Никогда я не чувствовал, что земля так бесполезна для меня. Бочонки остались на тех местах, куда их поставили зимой, и напоминали то время, когда луга были затоплены водой.
Уже в субботу меня охватывал страх при мысли о воскресенье и о всех тех часах, когда я не знал что делать. Однажды в субботу, вернувшись из школы, я увидел, что отец сидит на кухне, где он никогда не бывал в те часы, когда нас мыли.
Это был особый час; стекла окон и двери запотевали. Так как на дверях не было занавесок, их закрывали старым одеялом, потому что я отказывался раздеваться, если меня могли увидеть с улицы. На полу, на куске простыни, большой таз, мыло, щетка, пемза. На столе – ножницы, чтобы стричь ногти на ногах, полотенца и чистое белье. Пахло так, как пахнет в дни стирки. Брат Гильом был уже вымыт. Мать натирала ему волосы одеколоном и расчесывала их.
Отец сидел на стуле, опершись локтем на стол, и смотрел на нас как будто равнодушно. Говорить начала мать, я сидел в тазу.
– Теперь ты уже большой парень. Надо подумать о твоем учении... Не садись на пол, Гильом, ты опять выпачкаешься...
И мать, привыкшая мыть нас, намыливала мне лицо, так что мыло попадало в ноздри.
– В Сен-Жан-д'Анжели школы лучше, чем в деревне, и тетя Элиза согласна позаботиться о тебе...
Я сидел в теплой голубоватой воде с закрытыми глазами, вытянув ноги. Я не протестовал.
– Завтра мы отвезем тебя в Сен-Жан и будем приезжать к тебе каждую неделю.
Я ничего не сказал. Я не плакал. Хотя меня обливали горячей водой, чтобы смыть мыло, я заледенел. Я видел печь, плиту с кастрюлей для супа, кусок одеяла, которым были завешены стекла двери.
– Тетя Элиза тебя любит. Она будет заботиться о тебе.
Прошло какое-то время, пока мать одевала меня, как маленького ребенка, потом я услышал, что она сказала отцу:
– Вот видишь! Он даже никак не реагирует!
Я съел свою порцию супа, потому что помню, это была чечевичная похлебка. Но я не знаю, что мы ели еще. Правда, в субботу после мытья у меня и у брата всегда горели щеки, кололо в глазах и как будто начинался жар.
Нас уложили спать. Я долго слушал, как мать ходила взад и вперед, и когда приоткрывал глаза, то видел, что она складывает мою одежду и белье в плетеную корзину. Особенно точно я помню, что иногда слышал, как корова бьет ногой о выложенный плитами пол в коровнике и лошадь натягивает свой недоуздок.
Свет горел очень поздно. Я спал. Было совсем темно, когда лампа вновь загорелась и я слегка приоткрыл глаза.
Именно тогда я увидел отца: он стоял в рубашке возле моей кровати. Повинуясь какому-то чувству, я не открыл глаза, делая вид, что сплю, и глядя только сквозь щель между ресницами. Раз он был в рубашке, значит, он только что встал. Утро еще не наступило, так как за окном было темно. И это не был вечер, потому что свет в доме больше нигде не горел.
Наверное, он поднялся с постели бесшумно, боясь разбудить мать? Почему у меня создалось впечатление, что он боится, чтобы я не заговорил, что он готов приложить палец к губам?
Он смотрел на меня. Его нос сидел немного наискосок, как в тот день, когда он заделывал окно, но на этот раз тень от носа была длиннее.
Не знаю, потушил ли он свет сразу же, увидев, что мое лицо дрогнуло, или я снова уснул.
Проснувшись утром, я бессознательно искал его на том месте, где он появился ночью. Я позвал его:
– Папа!
Мне ответил голос матери из спальни, где она одевалась, собираясь идти в церковь:
– Что тебе надо? Отец запрягает кобылу.
Может быть, способный ясно запомнить некоторые впечатления, я при этом уже понимал все? Может быть, я был уже осторожным? Гильом часто повторял мне, а он, конечно, словно эхо вторил словам матери, потому что сам, собственно говоря, не знал меня:
– Ты всегда был фальшивый!
Почему фальшивый? Я знаю, что это слово для него значит. Был ли я фальшивым? Была ли фальшь в тяжелом взгляде, каким я смотрел на мать, и в том, как я холодно принимал ее поцелуи? Меня упрекали, что я не плакал в то воскресенье, а также и в субботу. Разве они знают? Да разве сам я знаю?
Я не знаю, опускал ли я голову, но морально я ее опускал, я был подавлен ощущением возмездия. Вот еще одно слово, которое трудно написать. Потому что о каком возмездии могла идти речь? За мою вину? Потому что я ничего не сказал? Потому что я не заявил полицейскому:
– Это было не в среду.
Потому что я никогда не говорил о манжете и запонке с рубином? Или потому, что я замкнулся в себе, затаил то, что знаю, и холодно смотрел на мать? Это сложнее, это более по-детски, и, став взрослым, я уже, что удивительно, не могу это выразить. Так среди угрызений совести, которые меня душили, было одно, касавшееся только меня, грязное и мучительное воспоминание о том, как я смотрел на девочку, присевшую на краю дороги.