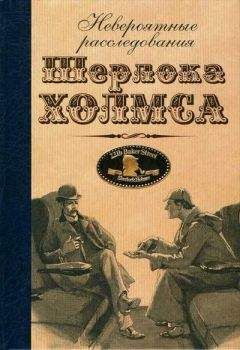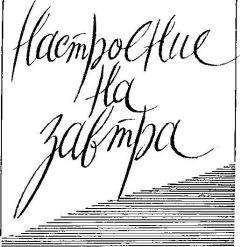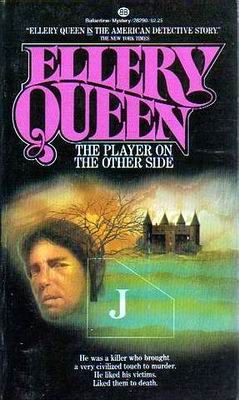Семён Клебанов - Прозрение
Часа через два снова поехали. Иван улегся на полу тамбура, прислонился головой к низко спадавшему тулупу кондуктора и, захмелев от чужого тепла, погрузился в сон, да надолго: товарный успел более ста километров отмахать.
Паровоз брал воду на узловой станции. Ивану не терпелось сойти, раздобыть еду, но страх будто стреножил его, он сидел, вздрагивая от близких голосов.
«Подальше уедем, тогда…» — твердил он и до боли сжимал зубы, чтобы не взвыть от отчаяния.
Покинув станцию, товарный поезд остановился у первого семафора, здесь его долго продержали.
Эта остановка хорошо запомнилась. Последняя платформа с лесом оказалась вблизи будки стрелочника. Иван решился попросить кусок хлеба.
Стрелочник сказал, что хлеба нет, его по карточкам дают, и так уж за три дня вперед съели, а вот картошки можно, аккурат теплая. Он вынул из котелка сперва четыре, потом добавил еще две картофелины.
Дмитрий Николаевич умолк, потер виски.
— Продолжай, — сказал Останин.
— Да, да… Постараюсь. В Донбасс я не попал. На какой-то станции — забыл ее название — пришлось стоять в очереди за кипятком. Я держал бидончик кондуктора и все оглядывался на наш товарный. Вдруг он тронулся. Я побежал через пути, но тут — встречный. И я не успел… На пристанционном базарчике продал злосчастный бидон из белой жести — получил рубль и тут же за этот целковый купил ржаную лепешку. Проглотив ее в один присест, я спросил бабу: «Может, надо дров наколоть?» Узнав, что я погорелец, она посоветовала пойти в депо — там нужны люди.
Действительно, там меня словно ждали. Паровозов много, а грузчика два. Какой-то усач в галифе поговорил со мной, направил в общежитие. Это был старый вагон. Я переспал на голой полке, а утром влез в брезентовую куртку и стал кидать уголь в тачки, которые потом везли по мосткам и опрокидывали в паровозный тендер. Навсегда запомнился первый заработанный суп из гороха и кусок ржавой селедки с огурцом. Через три дня грузчики взяли расчет и повели меня на станцию к бойкому вербовщику. «Этот с нами поедет. Записывай». Вербовщик похвалил ребят за помощь и, глядя на меня, отчеканил: «Поедем строить тракторный гигант. А место ему уготовано в Челябинске. Может, слыхал? Нет? Ну, увидишь. Поначалу определим в землекопы. Жалованье по выработке. Обеды по талонам. Житье в общежитии. Дорога за наш счет». Потом открыл тетрадку, послюнявил карандаш и спросил: «Фамилия?»
Тут меня осенило: «Ты теперь другой!» — и, вспомнив, как звали кондуктора, я ответил: «Ярцев Дмитрий… Николаевич…» Так меня и записали.
Дмитрий Николаевич отпил глоток холодного чая.
— Ну а с Челябинска тебе все известно.
Некоторое время молчали.
— Дмитрий, свари кофе… А я позвоню домой, доложусь.
Когда пили кофе, Останин спросил:
— А Елена знает о Проклове?
— Нет.
— Понятно. Значит, Елену пока выведем за скобки. Где этот Крапивка сейчас?
— В больнице. Мне думается, ты поможешь написать заявление в прокуратуру.
— О чем?
— Обо всем… Решенный вопрос. Во всяком случае, для меня, Ярцева.
— А для Проклова?
— Писать будет Ярцев.
— Я Проклова не знал. Я могу судить только Ярцева. Не стану тебя обманывать. За тобой большой долг. Не каждому по силам оплатить такой долг. Ты — можешь. Ярцев богат. Хватит ли твоего богатства, чтобы рассчитаться за Проклова, решит суд. А я для тебя все тот же друг, что и раньше. Вадим знает? Ты говорил с ним?
— Да. Он сказал: «Если бы это случилось со мной, я бы не знал, как жить дальше».
Останин долго молчал, потом спросил:
— Что ты ответил?
— Сказал, что не хочу умирать.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Поезд увозил Дмитрия Николаевича в Полесье.
Он лежал в двухместном купе спального вагона, уставившись взглядом на верхнюю полку, пустую, незастеленную.
Бесшумный вентилятор, перемешивая тепловатый воздух, подувал ветерком.
Дмитрий Николаевич прислушался к перестуку колес и вместо обычного «та-та-та» уловил нескончаемое: «при-го-вор, при-го-вор…»
«Я еду в Полесье. Это похоже на встречу со смертью, — подумал он. — Почему похоже? Похоже — это нечто приблизительное. А здесь…»
Постучав в дверь, вошла высокая, в вышитой красивым узором блузке, проводница и предложила чаю.
— С удовольствием, — поблагодарил Дмитрий Николаевич. Он обрадовался, что ее приход оборвал неотвязные мысли.
Отпив несколько глотков, он услышал в коридоре:
— Кто желает заказать билет на обратный путь?
У Дмитрия Николаевича кольнуло в сердце. Он был единственным пассажиром, который не знал, вернется ли обратно домой.
И сразу возникло лицо Дорошина, когда тот сказал: «Я бы не знал, как жить дальше».
Потом была ночь.
Он принял таблетку снотворного, налил немного коньяку в горячий чай и выпил, не очень разобрав — вкусно это или нет, и повалился на диван с надеждой на сон.
Едва он задремал, как в купе появился Крапивка, потрогал Дмитрия Николаевича рукой и буркнул: «Лежишь, а я думал, убежал». И неслышно исчез.
Дмитрий Николаевич спал тяжело, тревожно.
Утром в окне замелькали одинокие домики. Поезд прошел мимо составов, стоящих на запасных путях.
За окном показались вагоны с решетками, с часовыми у дверей. И разом потускнел блеск бронзовой арматуры, исчезла полировка на стенках купе, а вместо занавесок на окнах обозначилась ржавая решетка.
Поезд замедлил ход.
* * *Прежде чем переступить порог прокуратуры, он долго бродил по бульвару в центре города, продумывая предстоящий разговор.
Наконец подошел к старому зданию с колоннами. Поднялся на второй этаж.
Прокурор вышел из-за стола, протянул загорелую руку:
— Жбаков Павел Иванович… Садитесь, прошу.
Ярцев сел на краешек стула, вынул удостоверение, одетое в красный сафьян с золотым тиснением, и подал Жбакову.
На одном дыхании произнес:
— Меня интересует судебное дело Ивана Проклова. Он был осужден в Трехозерске в 1930 году. Нельзя ли поднять архив?
— В тридцатом? — переспросил Жбаков.
— Да.
— Прежде чем ехать, — с сочувствием сказал Жбаков, — вам следовало позвонить мне. Я бы сразу сказал: сгорел архив. Нас с первого дня войны бомбили. К сожалению, не сохранилось архива.
— Может, в других материалах какой-нибудь след найдется?
— Вряд ли, Дмитрий Николаевич. А что побудило вас искать столь давнее дело? Тридцать пять лет прошло. Уже история.
В это время раздался звонок. Жбаков несколько минут терпеливо слушал бубнивший в трубке голос, а потом, вспыхнув, сказал: