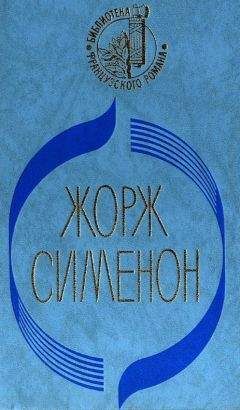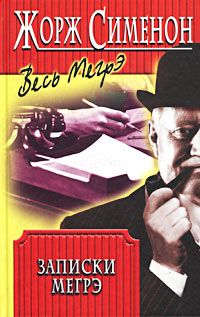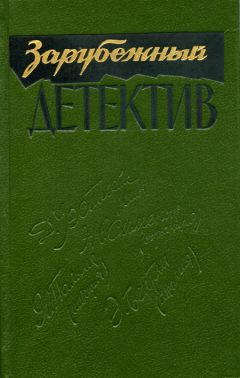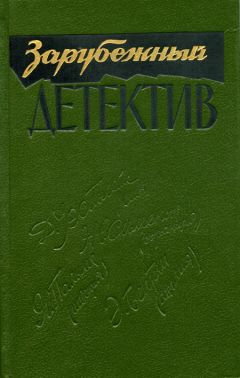Жорж Сименон - Три комнаты на Манхаттане
Едва раздались звуки музыки, как Ложье, который делал знак бармену, чтобы тот наполнил стаканы, принялся объяснять:
— Ты знаешь, какой доход принесла эта песня только в США? Сто тысяч долларов, старина, включая, конечно, гонорар и за музыку, и за слова. А сейчас она обходит весь земной шар. В данный момент по меньшей мере две тысячи музыкальных автоматов вроде этого исполняют ее, не говоря уж об оркестрах, о радио, о ресторанах. Я иногда себе говорю, что надо было бы мне писать песни, а не пьесы. Слушай, дорогой! А что если нам вместе пообедать?
— Ты не будешь сердиться, если я тебя сейчас покину?
Это было сказано так серьезно, что Ложье посмотрел на него не только с изумлением, но и, вопреки обычной ироничности, с некоторым уважением.
— Так, значит, в самом деле дела идут неважно?
— Извини меня.
— Да, конечно, старик… Скажи-ка…
Нет. Больше невозможно. Нервы у него на пределе. Его раздражала даже улица с ее шумом, который обычно он как-то не слышал, с ее бессмысленной суетой. Он постоял какое-то время на стоянке автобуса, потом, когда поблизости остановилось такси, бросился бежать, чтобы не упустить его, ворвался в машину и поспешно назвал шоферу адрес.
Он не знал, чего опасался больше — застать Кэй дома или не застать.
Он злился на себя, злился на нее, не зная толком, в чем ее упрекает. Он чувствовал себя униженным, чудовищно униженным.
Мелькали улицы. Он не смотрел на них и не узнавал. И говорил себе:
«Она воспользовалась случаем, чтобы улизнуть, стерва!» И тут же подумал:
«Я или другой… Любой другой… Или же тот проходимец из Канна».
Через стекло дверцы такси он вглядывался в свою улицу, будто ожидал увидеть какие-то изменения. Он был бледен и понимал это. Руки похолодели, на лбу выступил пот.
Он не видел ее у окна. Не осталось ничего от той утренней сцены, когда солнце было такое мягкое, день еще только начинался, а по стеклу медленно скользила ее рука, посылающая ему приветствие.
По лестнице Комб поднимался, перепрыгивая через две ступени, и остановился только на предпоследнем этаже. Его душила ярость, он от этого испытывал и стыд, и жалость к себе до такой степени, что еще немного — и он, казалось, нашел бы в себе силы посмеяться над всем этим.
Вот здесь, около этих немного липких перил, стояла она еще сегодня утром, каких-нибудь два часа тому назад.
Ждать было невозможно. Ему нужно скорее узнать, ушла она или нет. Он толкался в дверь, засовывая ключ поперек замочной скважины, но дверь открылась изнутри, прервав его неловкое царапанье по железу.
Перед ним стояла Кэй, и Кэй улыбалась.
— Пошли… — произнес он, не глядя ей в лицо.
— Что с тобой?
— Со мной ничего. Пошли.
Она была в черном шелковом платье. Ясно, что она и не могла бы надеть какое-то другое. И тем не менее Кэй явно купила белый воротничок с вышивкой, которого он у нее не видел, и это почему-то, без всяких оснований, разозлило его.
— Пошли.
— Но ведь ланч готов, понимаешь…
Он это понимал и прекрасно видел комнату, впервые за долгое время хорошо прибранную. Он догадывался и о присутствии за окном старого еврея-портного, но ничто его не радовало.
Ничто! В том числе и Кэй, которая была сбита с толку, не хуже, чем недавно Ложье, и в ее глазах он видел ту же уважительную готовность уступить, которую, должно быть, испытывают люди при столкновении с человеком в припадке.
Он был на пределе. Понимают это или нет? Если не понимают, пусть ему немедленно об этом сообщат, и он отправится сдыхать в своем углу.
Вот так!
Но пусть не заставляют его чего-то ожидать и не задают вопросов. Ему это надоело. Что именно? Вопросы! Во всяком случае, те, которые он сам себе задает. Он от них просто заболевает, да, именно, становится нервнобольным.
— Ну и как?
— Я пойду, Франсуа. Я думала, что…
Ничего не выйдет! Она думала приготовить для него приятный маленький обед. Он это знал и видел, он не был слепым. Ну что с того? Разве такую он ее полюбил, с эдаким блаженным видом молодоженки? Разве они были уже способны остановиться оба?
Он, во всяком случае, нет.
— Мне кажется, что плитка…
Тем хуже для плитки, пусть она горит, пока придет время о ней подумать. Горела же лампочка двое суток подряд. Разве он об этом беспокоился?
— Пошли.
Так чего же именно он боялся? Ее? Самого себя? Судьбы?
Одно было очевидно: он испытывал потребность вновь вместе с ней окунуться в толпу, опять тронуться в путь и бродить, заходя в маленькие бары, толкаясь среди незнакомых людей, перед которыми можно не извиняться, когда их задеваешь или наступаешь на ноги, потребность снова нервничать, видя, как Кэй неторопливо оставляет круглые отпечатки губ на якобы последней сигарете.
Надо ли было верить в то, что она это поняла?
Они оказались на тротуаре. Он не знал, куда идти, а она не осмеливалась проявить любопытство и спросить его.
Тогда глухо, как если бы раз и навсегда покорился судьбе, он повторил, когда она его брала под руку:
— Пошли.
Это были изнурительные часы. Казалось, он упрямо, с неким садизмом, водил ее по тем местам, где они бывали вместе.
В кафетерии Рокфеллеровского центра, например, где он заказал точно такое же меню, что и в первый раз, Комб долго и яростно следил за ней.
Потом спросил неожиданно:
— С кем ты уже приходила сюда?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Не задавай вопросов. Отвечай. Когда женщина отвечает на вопрос вопросом, это значит, что она будет лгать.
— Я тебя не понимаю, Франсуа.
— Ты ведь приходила сюда, ты сама мне об этом говорила. Признайся, было бы странно, если бы ты приходила сюда одна.
— Мне случалось тут бывать с Джесси.
— А еще?
— Не помню.
— С каким-нибудь мужчиной?
— Может быть. Да. Давным-давно с одним другом Джесси.
— Другом Джесси, который был твоим любовником.
— Но…
— Признайся.
— Ну, как сказать… Да, кажется… Один раз в такси…
Он представил внутренность такси, спину шофера, лица в темноте, белеющие молочными пятнами, и ощутил на губах вкус этих вороватых поцелуев, сделанных наспех, как будто прямо в толпе.
Он закричал:
— Шлюха!
— Но это для меня так мало значило, Фрэнк!
Почему она вдруг назвала его Фрэнк?
Он или кто другой, не так ли?.. Одним больше, одним меньше.
Почему она не возмущается? Он рассердился на нее за ее пассивность и приниженность, вывел наружу и потащил дальше, не останавливаясь, как будто его тянула вперед какая-то темная сила.
— А по этой улице ты уже ходила с мужчиной?
— Нет. Не помню.
— Нью-Йорк так велик, не правда ли? Тем не менее ты тут живешь уже немало лет. Никогда не поверю, что ты не посещала баров, таких, как наш, с другими мужчинами и там слушала бесконечное множество других пластинок, из которых каждая была в тот момент вашей пластинкой.