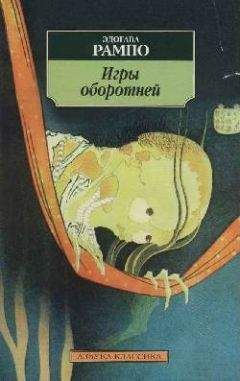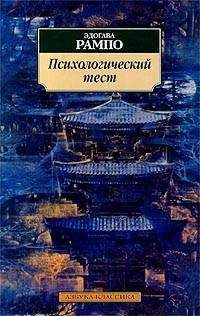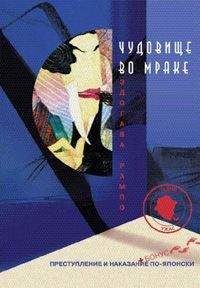Эдогава Рампо - Демоны луны
Сюжетный ход несколько неожидан: имя убийцы и мотив преступления раскрываются в первом же абзаце. Да и сама ситуация в общем-то не нова: кое-кому даже покажется, что сцену убийства старухи Рампо скопировал у Достоевского (о механизме культурного заимствования в Японии мы поговорим несколько позже). Но уже через пару страниц снисходительно позевывающий читатель, ожидавший утомительного перечисления подробностей преступления, поймает себя на том, что с неослабевающим интересом глотает сухие, бесстрастные, как протокол судебного заседания, строки. Ни один, даже искушенный в тонкостях жанра, знаток не догадается до самой развязки, каким образом хитроумный сыщик изобличит убийцу, не оставившего решительно никаких следов преступления.
Вдохновенный гимн интуитивному методу завершается эпизодом, напоминающим объяснение Раскольникова с Порфирием Петровичем, но и здесь Рампо верен себе: многочисленные аллюзии, реминисценции и прямые параллели с западной литературой для него только повод сказать нечто свое, глубоко индивидуальное и национальное. Кстати, сам психологический тест, предложенный немецким ученым Гуго Мюнстербергом, Рампо «препарирует» с такой изощренностью, столь изобретательно выявляет «слепые пятна» человеческой психики, что у читателя, по существу, не остается сомнений в превосходстве традиционного японского психологизма.
Ожесточенный спор Рампо с адептами научного детектива продолжается и в повести «Плод граната» (1934). Начальная сцена потрясает человека жуткой, патологической красотой.
…Полицейский, обходя участок, замечает в заброшенном доме красноватый отсвет. Движимый естественным любопытством, он подкрадывается к двери, и перед ним открывается чудовищная картина: при неверном свете свечи длинноволосый юнец вдохновенно срисовывает с натуры совершенно невообразимый предмет, отдаленно напоминающий перезревший, растрескавшийся плод граната. При ближайшем рассмотрении «гранат» оказывается головой трупа, чудовищно обезображенного кислотой. Неизвестно не только имя убийцы — неизвестна и личность изуродованного до неузнаваемости потерпевшего…
Далее пафос повествования несколько снижается и следует длинный обстоятельный рассказ усердного служаки полицейского, мнящего себя гениальным сыщиком. Он простоват и несколько напоминает бесхитростного доктора Ватсона. Тем не менее с помощью логических построений и материальных улик (!) ему удается изобличить настоящего преступника, затаившегося под маской добродетели. Однако… Однако не будем торопиться с выводами и предвосхищать события. Скажем лишь, что в повести — двойное, даже тройное дно. И завершается оно полным крахом научного метода исследования. Эдогава Рампо — великий мастер интриги, в этом он превзошел самого По. Если последний удовлетворялся максимум двойной «перестановкой» героев, то Эдогаве Рампо этого недостаточно: он столько раз меняет местами гипотетических преступника и жертву, что финал оказывается полной неожиданностью для обескураженного читателя (так же, как и в рассказе «Красная комната»). Особенно любит Рампо ссылаться на своих же героев и события, с ними происходящие, как на нечто реальное, тем самым усиливая эффект погруженности в вымышленную среду и достигая удивительной достоверности («Простая арифметика», «Психологический тест»).
Не менее любимый прием — ролевая множественность, несколько ипостасей одного героя; это прослеживается во многих произведениях Рампо.
Повесть «Дьявол» заслуживает того, чтобы о ней сказать отдельно. Главное ее действующее лицо — женщина, коварная, злобная и мстительная. Героини подобного типа столь часто встречаются в японской детективной литературе, что, пожалуй, иной неискушенный читатель может даже заподозрить японских представительниц слабого пола во врожденной склонности к злодейству. Однако исходить нужно совсем из обратного. Повесть «Дьявол» «выросла» из так называемых «докуфу-моно», или «рассказов о злодейках», а также из традиционного рассказа о привидениях, где носителями зла тоже выступали женщины, — в первом случае реально существовавшие авантюристки, во втором — неуспокоенные души, призраки умерших героинь. И это не случайно: в феодальной Японии не было существа более бесправного и забитого, чем женщина, и популярность мотива жестокой, изощренной женской мести в массовой литературе — своеобразный протест общества, реакция на несправедливость. Любопытно, что женщины-злодейки продолжают оставаться излюбленными персонажами и в современной японской детективной литературе, несмотря на стремительно возрастающую эмансипацию прекрасной половины человечества.
Повесть «Простая арифметика» (в оригинале «Кто?») стоит несколько особняком: и потому, что создана она позже, уже после войны, и потому, что в отличие от других повестей и новелл сборника написана прозрачным, простым языком, свободным от затейливости и нарочитой старомодности слога под XIX век, характерного для начального периода творчества Рампо. В ней не нагнетается атмосфера ужаса и зловещей тайны. Что это — качественно новый этап? Отход от прежних традиций? Нет. При внимательном изучении обнаруживается, что новшества носят чисто поверхностный, стилистический характер. Глубинный слой остается нетронутым — все тот же нескончаемый спор о «научном» и «интуитивном», заканчивающийся полным крахом научного метода, все те же излюбленные приемы — перевертыши, мистификации, ролевая множественность героев… Мало того, «Простая арифметика» связана с более ранним «Психологическим тестом» (а также с «Невероятным орудием преступления») еще и общим героем — любителем-детективом Когоро Акэти. На этом персонаже следует остановиться особо, ибо фигура Акэти — явление глубоко национальное и весьма любопытное.
Когоро Акэти — «проходной» персонаж целого ряда произведений Рампо, как, например, Шерлок Холмс у Конан Дойла. Между Акэти и главным героем, как правило, складываются такие же отношения, как между Холмсом и доктором Ватсоном. Однако на этом сходство кончается. В Акэти нет изысканности и светского лоска Дюпена, как нет и блистательной виртуозной игры ума Шерлока Холмса. Рампо чрезвычайно скупо описывает своего героя: самая яркая деталь, кочующая из произведения в произведение, это «вечно растрепанные волосы» и неизменная ироническая усмешка. Но это отнюдь не свидетельство творческой несостоятельности писателя. Не будет преувеличением сказать, что образ Акэти порожден японским обществом. Чтобы понять и принять подобный тезис, необходимо вернуться назад, к началу — к причинам столь позднего возникновения в Японии детективного жанра. Ибо истоки обоих явлений — одни и те же.