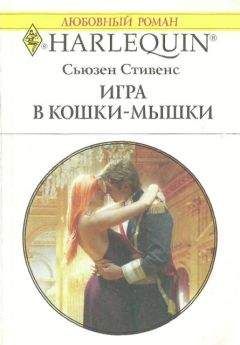Джон Карр - Игра в кошки-мышки
— Здесь я играла, — сказала она, — когда была маленькой.
Ее спутник пропустил слова Констанс мимо ушей.
— Значит, это твой отец, — кивнул он в сторону здания суда.
— Да.
— Опасный противник, не так ли?
— И вовсе нет, — резко возразила девушка. — То есть… ох, я и не знаю, что он собой представляет, честное слово. И никогда не знала.
— Жесткий?
— Да, случается. Но я никогда не видела, чтобы он выходил из себя. Сомневаюсь, что ему вообще это свойственно. Он никогда не бывает многословен. И… послушай, Тони.
— Да?
— Мы делаем ошибку, — сказала Констанс, водя носком туфельки по гравию дорожки и не отрывая от него взгляда. — Скорее всего, сегодня мы его не увидим. Я забыла, что сегодня последний день выездной сессии. Затем следует целый ряд церемоний, шествий и всего прочего; он по традиции выпивает со своим помощником и… и… словом, у нас не получится. Нам лучше вернуться на вечеринку Джейн. А завтра мы сможем отправиться в «Дюны» и повидаться с ним.
Ее спутник сдержанно улыбнулся:
— Боишься столкнуться с трудностями, моя дорогая?
Протянув руку, он коснулся ее плеча. Ее спутник представлял собой один из типов самоуверенных мужчин, которые вызывают мысль о выходцах из Южной Европы и о которых Джейн Теннант однажды сказала, что они всегда заставляют женщину чувствовать, будто дышат ей в затылок.
Несмотря на его английские имя и фамилию Энтони Морелл, его можно было бы принять за типичного итальянца: с оливковой кожей, очень белыми крепкими зубами, живыми выразительными глазами под мохнатыми бровями и густыми волосами, отливавшими на солнце синевой. Его портрет дополняли очаровательная улыбка и изысканные манеры. Кроме того, у него было умное застенчивое лицо, не лишенное, впрочем, и твердости.
— Боишься столкнуться с трудностями? — повторил он.
— Дело не в этом!
— Ты уверена, моя дорогая?
— Неужели ты не понимаешь? Просто сегодня он будет окружен людьми! А завтра отправится в свое бунгало, которое только что купил в Хорсшу-Бей. Там никого не будет, кроме женщины, которая ведет у него хозяйство. Разве не лучше было бы посетить его именно в это время?
— Я начинаю думать, — сказал Морелл, — что ты не любишь меня.
Она вспыхнула:
— Ох, Тони, ты же знаешь, что это неправда!
Мистер Морелл взял ее за руки:
— А я вот люблю тебя. — Было невозможно сомневаться в неподдельной искренности его поведения. Он был совершенно серьезен. — Я хочу целовать твои руки, твои глаза, твою шею и губы. И готов встать перед тобой на колени — здесь и сейчас.
— Тони, не надо!.. Ради бога… не!..
Констанс не представляла, что может испытывать такое сильное смущение.
Казалось, что в Лондоне, в Челси или Блумсберри, все шло именно так, как надо. Здесь же, в этом маленьком садике за зданием суда, все казалось едва ли не гротеском. Словно огромный пес положил лапы ей на плечи и принялся лизать физиономию. Она любила Тони Морелла, но сомневалась, что тут самое подходящее время и место. И Морелл, не обделенный живой интуицией, сразу же это понял. Усмехнувшись, он снова сел на свое место.
— Тебя что-то угнетает, моя дорогая?
— Ты же не считаешь, что я подавлена? Не так ли?
— Весьма похоже, что так, — с насмешливой серьезностью сказал ее спутник. — Но мы можем все изменить. Хотя меня несколько обидело, что ты не испытываешь желания представить меня своему отцу.
— Это не так. Но я чувствую… — она замялась, — что его следует как-то подготовить. Дело в том… — девушка снова замялась, — у меня был близкий друг, и он должен… ну, как-то услышать новость. Еще до того, как мы там окажемся…
Мистер Морелл нахмурился:
— Вот как? Что же это за друг?
— Фред Барлоу.
Тони Морелл залез в жилетный карман и извлек оттуда талисман, который по привычке подбрасывал и крутил в руках, когда был чем-то занят или размышлял. Талисман представлял собой пулю, маленькую револьверную пулю. Он говорил, что с ней связана интересная история, хотя Констанс сомневалась, каким образом пуля, не будучи выстреленной, может иметь интересную историю. Тони подбросил ее в воздух и, поймав на ладонь, со шлепком прикрыл другой ладонью. Подкинув, он снова поймал ее.
— Барлоу, — повторил он, отводя взгляд в сторону. — Не тот ли это парень, что сидел в суде? Парень, защищавший человека, которого твой отец приговорил к смертной казни? Парень, за которого отец хочет, чтобы ты вышла замуж?
К своему удивлению, Констанс увидела, что Тони внезапно побледнел, и поняла, что снедавшее его чувство было ревностью. Ее потрясла порочная радость, но она поторопилась поправить Тони:
— Тони, дорогой, я тебе в сотый раз говорю, что ровно ничего не было! Я не давала Фредди Барлоу ни малейшего повода, и он это знает. Да я же практически выросла вместе с ним! Что же до папиных пожеланий…
— Да?
— Он хочет того, чего хочу я. По крайней мере, я на это надеюсь. — Но в ее карих глазах не было полной уверенности. — Послушай, мой дорогой. Я написала Фреду записку. Обычно по завершении процесса все юристы собираются в раздевалке, где освобождаются от своих смешных воротников, моют руки и спорят. Но я попросила Фреда, как только он освободится, прийти сюда. И сообщила, что хочу сказать ему что-то ужасно важное. — Она поперхнулась и торопливо взмолилась: — Тони, он идет! Ты же будешь с ним любезен, не так ли?
Тони Морелл в очередной раз подкинул пулю, поймал ее и сунул в карман. Он уставился на гравийную дорожку, по которой к ним приближалась фигура в мантии и парике.
Фредерик Барлоу был высок и худ; с лица его не сходило ироническое выражение, дававшее понять, что, наблюдая за миром, он пришел к выводу, что в нем многого не хватает. По прошествии времени — если, например, ему не удастся найти хорошую жену — это качество может привести к тому, что в судейском кресле он станет воплощением сухой мрачности. Ибо в один прекрасный день он, скорее всего, займет его.
Его карьера триумфально подтверждала тезис, что настойчивая учеба берет верх над природой. По натуре Барлоу был легкомысленной личностью, но, когда имеешь дело с законом, необходимо решительно отбрасывать все лишнее и не позволять себе никаких глупостей. Романтичный по натуре, к присяжным он обращался весьма решительно. Барлоу пользовался известностью как толковый бизнесмен, хотя бизнес ненавидел больше всего на свете. Тот факт, что он стал королевским адвокатом в тридцать три года, смахивал на маленькое чудо и, возможно, был оправданием той самодисциплины, с которой он не расставался, словно с умственной власяницей.