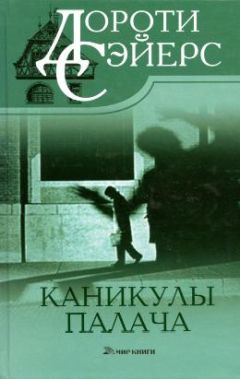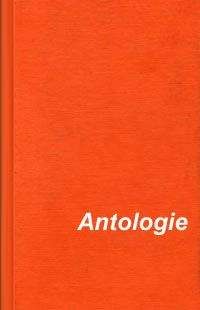Дороти Сэйерс - Встреча выпускников
Всё это было так давно, так тщательно впитано и отброшено, отрезано, как шпагой, от горьких лет, которые лежат в промежутке. Может ли человек вновь предстать перед всем этим? Что бы сказали те женщины ей, Харриет Вейн, которая взяла первое место по английскому и уехала в Лондон, чтобы писать детективные романы, жить с человеком, который не был на ней женат, и попасть под суд за его убийство в ореоле скандальной славы? Это не было той карьерой, которую Шрусбери ожидал от своих выпускниц.
Она никогда не возвращалась туда: сначала потому, что слишком сильно любила это место, и резкий и полный разрыв казался легче, чем медленное мучительное расставание, а также потому, что, когда её родители умерли и оставили её без средств к существованию, борьба за то, чтобы заработать на жизнь, поглотила всё её время и мысли. А впоследствии непреодолимая тень виселицы пала между нею и залитым солнцем серо-зелёным двориком. Но теперь?..
Она вновь взяла письмо. Это была настоящая мольба посетить встречу выпускников Шрусбери — мольба, которую было трудно игнорировать. Подруга, которую она не видела с институтских лет, уже замужняя и отдалившаяся, теперь заболела и очень хотела увидеться с Харриет ещё раз перед отъездом за рубеж для сложной и опасной операции. Мэри Стоукс, такая прекрасная и изящная в роли мисс Пэтти[6] в постановке на втором курсе, такая очаровательная и обладающая совершенными манерами, являвшаяся центром общественной жизни их курса. Казалось странным, что она могла испытывать привязанность к Харриет Вейн, грубоватой, застенчивой и весьма малопопулярной. Мэри была ведущей, а Харриет — ведомой, когда они плыли на плоскодонке вверх по реке Шер, с земляникой и термосами, когда они поднимались на башню Магдален первого мая перед восходом солнца и чувствовали, что башня раскачивается под ними вместе с колоколами, когда они сидели поздно вечером у огня с кофе и имбирной коврижкой, — и всегда Мэри брала инициативу на себя во всех долгих дискуссиях о любви и искусстве, религии и гражданском обществе. Мэри, как говорили все её друзья, была предназначена быть первой, и только скучные, непостижимые доны не были удивлены, когда в списках против имени Харриет стояло первое место, а против имени Мэри — второе. С тех пор Мэри вышла замуж, и о ней почти ничего не было слышно, за исключением того, что она продолжала навещать колледж с нездоровой настойчивостью, никогда не пропуская встречи старых студентов или торжественный вечер выпускников. А Харриет оборвала все старые связи, нарушила половину заповедей, изваляла свою репутацию в грязи и стала зарабатывать деньги, имела у своих ног ног богатого и забавного лорда Уимзи, готового жениться на ней, если только она согласится, и была полна энергии, горечи и массы сомнительных преимуществ, сопутствующих известности. Казалось, Прометей и Эпиметей поменялись местами, но одному достался ящик с проблемами, а другому — голая скала и орёл, и никогда, казалось Харриет, не могли они встретится вновь в какой-нибудь точке пересечения.[7]
— Ну и ради Бога! — сказала Харриет. — Не буду трусихой. Поеду, и пусть всё будет проклято. Ничто не может причинить мне большую боль, чем мне уже причинили. И какое это, в конце концов, имеет значение?
Она заполнила бланк приглашения, написала адрес, резким движением запечатала конверт и быстро сбежала вниз, чтобы бросить его в почтовый ящик прежде, чем передумает.
Она медленно вернулась через сквер, поднялась по каменным ступенькам в стиле Адамов[8] в свою квартиру и, после бесплодных поисков в шкафу, вышла и вновь медленно поднялась на площадку в верхней части дома. Она вытащила древний дорожный чемодан, отперла его и откинула назад крышку. Спёртый, холодный запах. Книги. Одежда, которой не пользуются. Старая обувь. Старые рукописи. Полинявший галстук, который принадлежал её умершему любовнику — как ужасно, что эти вещи всё ещё где-то существуют. Она зарылась в основание груды и вытащила на пыльный солнечный свет толстый чёрный свёрток. Мантия, надетая только один раз при получении степени магистра, ничуть не пострадала от своего долгого уединения: жёсткие сгибы свободно распрямились, оставив едва заметную складку. Вызывающе светился тёмно-красный шелк капюшона. Только плоская шапочка немного пострадала от моли. Когда она выбивала пыль, черепаховая бабочка, пробуждённая от спячки откинутой крышкой чемодана, затрепетала на фоне яркого окна, где была поймана паутиной.
Харриет была рада, что теперь может позволить себе небольшой собственный автомобиль. Её въезд в Оксфорд совершенно не походил на её предыдущие приезды поездом. В течение нескольких последующих часов она ещё могла игнорировать хныкающего призрака своей умершей юности и говорить себе, что она здесь посторонняя и временная, преуспевающая женщина с положением в обществе. Пышущий жаром отрезок дороги остался далеко позади, из зелёного пейзажа вырастали города, окружающие её вывесками гостиниц и бензоколонками, магазинами, полицейскими и детскими колясками, а затем уносились назад в забвение. Июнь умирал среди роз, живые изгороди темнели и становились уныло-зелёными, вульгарность красного кирпича, тянущегося вдоль шоссе, была напоминанием о том, что настоящее обязательно строится на пустотах прошлого. Она пообедала в Хай-Вайкомб в одиночестве и с удобствами, заказав полбутылки белого вина и великодушно дав чаевые официантке. Она стремилась как можно сильнее отличаться от той бывшей студентки, которая была рада пакету с бутербродами и фляжке с кофе, съеденными под деревом в переулке. По мере того, как человек становится старше и упрочивает своё положение, он начинает заново радоваться формальностям. Её платье для приёмов в саду, выбранное так, чтобы оно гармонировало с полной парадной университетской формой, лежит, аккуратно свернутое, в чемодане. Оно — длинное и строгое, из простого чёрного жоржета, совершенно и безупречно правильное. Под ним лежит вечернее платье для торжественного обеда выпускников — насыщенный цвет петунии, превосходный покрой со сдержанными линиями без неподобающей демонстрации спины или груди, такое платье не оскорбило бы портреты покойных директоров, пристально глядящих вниз с медленно темнеющих дубовых панелей Холла.
Хедингтон. Теперь она была уже очень близко, и, против воли, что-то сжалось внутри. Холм Хедингтон, на который так часто приходилось подниматься, нажимая на педали старенького велосипеда. Теперь, когда движением управляют четыре ритмично движущихся поршня в цилиндрах, он выглядел не таким крутым, но каждый лист и камень, казалось, приветствовал с навязчивой фамильярностью старого однокашника. Затем узкая улочка с её тесными, неряшливыми магазинами, напоминающая деревенскую улицу; один или два отрезка были расширены и улучшены, но слишком мало было действительных изменений, чтобы ими можно было заслониться от себя.